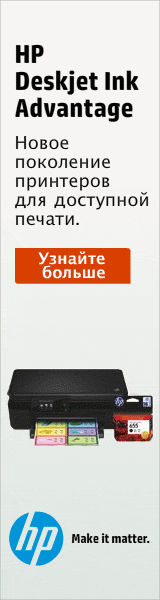|
Реферат: Развитие речи и мышленияРеферат: Развитие речи и мышленияРАЗВИТИЕ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ Предмет, которому посвящена эта глава, — развитие речи и мышления, особенно развитие высших форм мышления в детском возрасте, — трудный и сложный. Поэтому я позволю себе начать с наиболее простого — с наиболее известных конкретных фактов, настолько элементарных, что боюсь заслужить упрек в чрезвычайном упрощении большой проблемы. Но я не вижу другого пути, чтобы приблизиться к огромному и сложному вопросу сразу с теоретической стороны. Хочу начать с известного опыта — с попытки определить главнейшие этапы в развитии мышления ребенка по его рассказу по картинке. Известно, что прием, который предложил А. Бине и который широко использовал В. Штерн, чрезвычайно прост и ясен. Берут простую картинку, на которой изображена, например, городская или крестьянская семья или узники в тюрьме, показывают картинку ребенку 3,7, 12 лет и выясняют, как каждый из них описывает один и тот же сюжет. При этом исследователи говорят: поскольку всем детям дан один и тот же объект мышления, следовательно, мы вправе сказать, что мышление развивается на ранних главнейших этапах так, как обнаруживается в рассказе ребенка. Известно также, какие выводы получаются из такого опыта. Кстати, это выводы, на которых строится многое в психологии мышления. Получается так, что дети раннего дошкольного возраста рассказывают картинку, называя отдельные предметы, отсюда делается вывод: дошкольник мыслит мир в качестве системы отдельных вещей и предметов. Школьник устанавливает уже некоторые простые действия, которые производят изображенные предметы пли лица, отсюда делается вывод: школьник мыслит мир в качестве системы действующих предметов и людей. Наконец, мы знаем, что школьник старшего возраста переходит к стадии признаков, а потом к стадии отношений и воспринимает сложные отношения между отдельными предметами. Отсюда делается вывод: школьник старшего возраста воспринимает мир как систему сложных отношений, в которых находятся друг с другом люди и вещи. Центральный факт, имеющий основное значение для психологии мышления, заключается в пересмотре тех положений, которые мы только что указали. Сомнения в значении тех данных, которые были получены в опыте с рассказом по картинкам, возникли давно, и необходимо было заронить эти сомнения у людей, которые подходят к вопросу чрезвычайно просто. В самом деле, что говорит опыт? Сначала ребенок воспринимает предметы, потом — действия, потом — отношения, т. е. связь вещей. Похоже ли это на самом деле на то, что мы знаем о развитии ребенка вообще? Попробуем продолжить этот ряд вниз, рассмотрим, как ребенок будет воспринимать картинку или мир в еще более раннем возрасте. Очевидно, он должен воспринимать не только предметы или вещи, но самые мельчайшие свойства и качества вещей, потому что сама вещь есть уже довольно сложная связь отдельных признаков и отношений. Можно сказать прямо: все, что мы знаем о ребенке, противоречит, этому представлению. Все, что мы знаем о ребенке, говорит: ребенок раннего и дошкольного возраста воспринимает вещи как отрезок действительности в чрезвычайно конкретной связности этих вещей. Начальное восприятие отдельных предметов, которое мы приписывали ребенку на основании опыта с картинкой, есть в действительности стадия более поздняя, возникающая в дальнейшем развитии ребенка, а все известное нам в развитии мышления у ребенка раннего возраста говорит в пользу того, что этот опыт, когда его продолжают, приводит каким-то чудом к превратным представлениям, т. е. как раз к обратному процессу развития мышления у ребенка. Ребенок мыслит раньше целыми связными глыбами. Этот момент называют синкретизмом. Синкретизм — особенность детского мышления, дающая возможность ребенку мыслить целыми глыбами, не расчленяя и не отделяя один предмет от другого. Синкретический характер детского мышления, т. е. мышления целыми ситуациями, целыми связными частями, настолько силен, что он держится еще в области словесного мышления у школьника и является преобразующей формой мышления у ребенка дошкольного возраста. Именно неумение выделить отдельную вещь, назвать ее особенно ярко сказывается на двух примерах, которые я заимствую у Ж. Пиаже. Ребенка спрашивают: «Почему солнце греет?» Он отвечает: «Потому что оно желтое, потому что оно высокое, высоко держится». «Объяснить» для такого ребенка — значит привести ряд других фактов и свойств, впечатлений и наблюдений, которые непосредственно связаны с одним впечатлением, одним образом. Что солнце держится и не падает, что оно желтое, горячее, что около него облака — все то, что ребенок видит, связано вместе, он не отделяет одно от другого. У ребенка более старшего возраста синкретизм вызывает смешение, т. е. соединение всего со всем, что только соединяется во внешнем впечатлении. Это остается у ребенка школьного возраста в речи: ребенок движется такими синкретическими целыми. П. П. Блонский правильно называет это свойство бессвязной связностью мышления. «Бессвязное» — это понятно: ведь ребенок мыслит, указывая, что солнце не падает, потому что оно горячее. Здесь многое кажется несвязным. Вместе с тем это правильно называется «связность», потому что ребенок связывает то, что мы — взрослые — обязательно расчленяем. Для него тот факт, что солнце желтое и что оно не падает, слито в одно впечатление, которое мы разделяем. Таким образом, синкретизм заключается в бессвязной связности мышления, т. е. в преобладании связи субъективной, связи, возникающей из непосредственного впечатления, над связностью объективной. Отсюда получается объективная бессвязность и субъективная всеобщая связность. Ребенок воспринимает так, что у него все связано со всем. Со стороны объективной это означает, что ребенок связь впечатлений принимает за связь вещей. То, что у ребенка выступает как связь впечатлений, он воспринимает как связь вещей. Что при этом происходит в мозгу ребенка со стороны физиологической, относительно известно: это хорошо отражено у И. П. Павлова в интересном положении об иррадиации, т. е. первоначально разлитой, диффузной стадии возбуждения, которым сопровождаются первые впечатления, вызывающие к жизни целый комплекс, связанный с этим впечатлением. Как представляли себе психологи старого времени, психологи-субъективисты, развитие мышления? Они указывали, что состояние новорожденного ребенка можно представить как хаос каких-то ощущений, прежде всего хаос бессвязных вещей, потому что где же взяться связи, когда нет опыта? Ребенок никогда не видел предметов, скажем кровати, человека, стола, стула. Если функционируют только органы чувств, то, естественно, у ребенка должен быть хаос представлений, смесь из теплого и сладкого, черного и желтого, разных несвязных между собой ощущений и свойств предметов. Постепенно ощущения накапливаются, из отдельных ощущений складываются группы. Отсюда получаются вещи, затем вещи складываются в группы, и, наконец, ребенок переходит к восприятию мира. Экспериментальные исследования показывают, однако, что дело происходит как раз обратно. Ребенок раннего возраста воспринимает мир синкретически — целыми большими группами или ситуациями. Еще одно физиологическое соображение говорит в пользу этого. И. П. Павлов изучал свойства так называемого комплекса раздражителей и показал, что комплекс известных раздражителей вызывает иное действие, чем каждый раздражитель, порознь взятый, отдельные раздражители или взятые рядом друг с другом. Сначала у Павлова в лаборатории начали работать с отдельными раздражителями, потом перешли к комплексу. Таким образом, в лабораторной практике сначала ставится эксперимент с отдельными раздражителями, потом с комплексом. А как происходит в жизни ребенка? Думаю, что сначала ребенок имеет дело с комплексом впечатлений и предметов, с ситуацией в целом. Ребенка кормит мать, значит, раздражителем является мать, ее одежда, лицо, голос; то, что ребенка берут на руки, кладут в известную позу; сытость при кормлении; затем ребенка укладывают спать. Это целая ситуация, которая развертывается перед ребенком. Поэтому Павлов говорит: если мы в лаборатории позже пришли к комплексу раздражителей, то в жизни, генетически, комплекс раздражителей для ребенка является первичным, ребенок сначала мыслит комплексом, потом отдельными вещами. Однако легко видеть, что опыт с пониманием картинок говорит обратное. Еще одно соображение фактического характера. Опыт с применением картинок говорит, что ребенок 3 лет видит отдельные предметы, а ребенок более старшего возраста мыслит мир как систему действий. Выходит, если одну и ту же картину (предположим, «Узник в тюрьме») показать трехлетнему ребенку, то это будет: «Человек, другой человек, окно, кружка, скамейка», а для дошкольника будет: «Человек сидит, другой человек смотрит в окно, кружка стоит на скамье». А ведь мы знаем, что и трехлетний ребенок, и ребенок раннего возраста, наоборот, все расставленные фигуры, все предметы определяют по их функциям, т. е. определяют их через действия. Для ребенка именно они есть первичное. И когда мы доискиваемся начального, первичного слова, то обнаруживаем, что это есть название действия, а не предмета; ребенок раньше называет слово, обозначающее действие, чем слово, обозначающее предмет. Подытоживая материал, мы приходим к выводу: создалось роковое противоречие между развитием мышления, которое рисует рассказ по картинке, и всем тем, что мы знаем о развитии мышления в жизни. В обоих случаях отношения оказываются как бы перевернутыми. Любопытно, что все эти соображения проверяются экспериментами и фактами. Можно взять тысячу детей и лишний раз доказать, что с картинкой дело происходит так. Это действительно факт неоспоримый, но его надо иначе истолковать. Сделаем одно из самых простых наблюдений, которое мы сумеем разъяснить и которое укажет путь к новому истолкованию. Если все, что мы знаем о мышлении ребенка, противоречит тому, что дает рассказ по картинке, то все, что мы знаем о речи ребенка, это подтверждает. Мы знаем, что ребенок говорит сначала одиночные слова, затем фразы, позже у ребенка набирается круг отрывочных слов и явлений, затем пятилетний ребенок устанавливает связь между словами в пределах одного предложения; восьмилетний произносит уже сложные придаточные предложения. Возникает теоретическое предположение: может ли рассказ по картинке изобразить развитие детского мышления? Можно ли понять — мыслит ли ребенок так, как он говорит, наивными выражениями? Может быть, генетически дело заключается в ином: картинка констатирует только тот факт, что ребенок составляет из отрывочных слов фразы, затем все больше и больше связывает слово в пределах одного предложения и, наконец, переходит к связному рассказу? Может быть, ребенок не мыслит мир сначала отдельными вещами, потом действиями, потом признаками и отношениями? Может быть, ребенок говорит сначала отдельными словами, потом простейшими предложениями, потом связывает эти предложения? Произведем эксперимент, потому что окончательный ответ могут дать только эксперименты. Для этого есть несколько простых путей, которые мне представляются чрезвычайно остроумными. Попробуем исключить детскую речь, попробуем получить ответы на картинку каким-нибудь другим путем, не через слова. Если верно предположение, что ребенок не мыслит мир отдельными вещами, но умеет называть только отдельные слова и не может сформулировать их связи, то попытаемся обойтись без слов. Попросим двух детей не рассказать, а сыграть то, что показано на картинке. Оказывается, что игра ребят по картинке длится иногда 20—30 минут, и прежде всего и главным образом в игре схватываются те отношения, которые есть на картинке. Проще говоря, если попросить ребенка драматизировать картинку, а не рассказывать ее, то, согласно опытам Штерна, ребенок 4—5 лет драматизирует картинку «В тюрьме» так, как рассказывает ее 12-летний подросток. Ребенок прекрасно понимает, что люди сидят в тюрьме: сюда присоединяется сложное повествование о том, как на них напали, как их забрали, что один смотрит в окно — хочет на волю. Сюда же присоединяется очень сложный рассказ о том, что недавно няню оштрафовали за то, что у нее не оказалось билета в трамвае. Словом, получается типичное изображение того, что мы наблюдаем в рассказе 12-летних детей. Вот тут у психолога открываются глаза на процесс детского мышления, на историю развития детского мышления, как показывает рассказ по картинке и как он раскрывается при драматизации. Позвольте перейти к другой стороне того же опыта. Попытаемся сделать так, как делали некоторые экспериментаторы до нас. Попытаемся показать, верно ли, что ребенок 3 лет не воспринимает отношений, а воспринимает отдельные вещи или предметы, а связь между ними устанавливается позже. Если это так, то надо ожидать, что если в эксперименте мы дадим ребенку действовать с вещами, между которыми мало связи, то ребенок этой связи не уловит и будет обращаться с предметами как с отдельными, без связи между ними. Этому была посвящена работа В. Элиасберга, который выработал методику для обоснования специального опыта. Суть его в следующем. На столе кладут ряд цветных листов бумаги, подводят ребенка к столу, не дают никаких инструкций, иногда обращают внимание на бумажки, которые расположены перед ним. Бумажки двух цветов: ярко-красные и синие. Ребенок тянется за бумажками, переворачивает их. Под одной из них (под синей) приклеена папироса. Ребенок обращает на нее внимание и пытается ее сорвать. Как он будет действовать дальше? Если ребенок находится в стадии, которая обнаруживается в тесте — с рассказом по рисунку, то надо ожидать, что дальше испытуемый будет действовать с отдельными бумажками, в лучшем случае с кучкой бумажек, и никакой связи, никаких отношений между предметами не установит. Опыт показывает обратное. Ребенок, начиная с полутора-двух и, как правило, до 3 лет, уже всегда образует самую обычную связь между синей бумажкой и открывает папиросы. Когда бумажки расположены в беспорядке, ребенок дальше открывает только синие и оставляет красные в стороне. Если после первого раза изменить цвет бумажек и вместо красных и синих положить оранжевые и коричневые, ребенок поступает так же. Он открывает оранжевую, открывает коричневую, под которой оказывается папироса, и опять устанавливает связь между цветом и наличием папиросы. Чрезвычайно интересно, что он устанавливает связь гораздо лучше, чем старший школьник, для которого уже опыт и вся ситуация гораздо более расчленены на отдельные вещи, не имеющие ничего общего друг с другом. Взрослый человек устанавливает связь еще хуже, чем старший школьник. Поэтому Элиасберг считает невероятным, чтобы ребенок, который легко устанавливает отношения между вещами на простейшем опыте, мыслил мир отдельными предметами и не умел образовать связь — человек стоит у окна, а видел бы только — человек и окно. Решающее значение для Элиасберга имели опыты с не говорящими детьми — с алаликами и глухонемыми. Тут многие опыты с анализом безречевого поведения заставляют нас сделать вывод, что ребенка раннего возраста можно обвинить в тенденции связывать все со всем; для него, как показал опыт, необычайная трудность заключается в расчленении связи, в умении выделить отдельные моменты. Поэтому общее представление, что ребенок не связывает действия друг с другом, отпадает. Сомнение в правильности генетической кривой в развитии мышления, которую рисует рассказ по картинке, возникло давно. Штерн обратил внимание на то, что, если мысленная задача для ребенка трудна, он спускается на более низкую ступень. Если ребенок видит более сложную картинку, то 12-летний начинает рассказывать, как 7-летний, а 7-летний — как 3-летний. Чтобы доказать это, Штерн просил ребенка написать рассказ о картинке, находящейся перед глазами. И опять-таки все дети, вынужденные применить для рассказа письменную речь, снижаются еще на одну ступеньку. Этот опыт принес Штерну триумф. Опыт показал, что при усложнении задачи (если мы изучаем воспроизведение картинки до памяти) сразу снижается качество рассказа. Следовательно, по внешнему впечатлению, которое сложилось о процессе мышления, можно предположить, что сначала имело место мышление об отдельных вещах, потом о действиях этих вещей, потом о признаках и, наконец, о связях вещей. Но тут выступает еще одна группа опытов, которые опрокидывают все построение Штерна, и можно только удивляться, как раньше они (опыты) не привели к пересмотру вопроса в этом направлении. Первый опыт заключается в следующем. Если взять детей из различных слоев социальной среды: крестьян и культурных городских детей, отсталых и нормальных, — то у крестьян, живущих в Германии, ребенок в рассказе по картинке запаздывает в развитии при переходе от стадии к стадии по сравнению с другими слоями. Когда Штерн пытался сравнить мышление ребенка из образованной и необразованной среды, оказалось, что в повседневном мышлении дети из необразованной среды отстают незначительно, а во многих случаях почти не отстают в содержании мышления от сверстников из образованной среды. Наоборот, опыт с анализом речи детей различных слоев дал полное соответствие с данными о развитии речи, например из наблюдений над развитием словесной речи и синтаксисом крестьянских детей оказалось, что ребенок описывает картинку так, как говорит в жизни. Тут можно было бы сделать простой вывод, и если бы психологи могли этим удовлетвориться, то и не следовало бы производить дальнейших экспериментов. Но психологи придерживаются другого взгля- да, считая, что рассказ по картинке показателен не для того, как ребенок говорит вообще в жизни, а для указанных экспериментальных условий. Второй опыт, на который обратил внимание П. П. Блонский и который также привел к пересмотру всех опытов с рассказом по картинке, показывает: если мы предлагаем ребенку изложить рассказ не устно, а письменно, то сразу обнаруживается, что 12-летний описывает, как 3-летний. Письменное изложение 12-летнего мальчика напоминает устный рассказ 3-летнего. Неужели мы можем допустить, что только потому, что мы дали ребенку карандаш, это затруднило задачу мышления? Если ребенок плохо пишет, значит ли это, что в мышлении он сразу спускается из стадии отношений на стадию предметов? Это неверно. А между тем то, что ребенок в 12 лет пишет так, как говорит ребенок в 3 года, является фактом. Проще говоря, это значит, что рассказ по картинке дает извращенную картину развития мышления ребенка. На самом деле рассказ отражает стадию, на которой стоит та или иная форма речи ребенка; если же перейти к речи письменной, то в опыте .отразится специфика письменной речи ребенка. Путаница в детской психологии возникла потому, что психологи не могли отличить развитие речи от развития мышления — вот самый важный вывод, с которого начинается теоретическое рассмотрение этого вопроса. На анализе теста с картинкой мы показали, что тест при недостаточно критическом к нему отношении способен ввести нас в заблуждение, т. е. ложно показать путь развития детского восприятия мира и детского мышления о мире. Вместе с тем экспериментальная проверка восприятия ребенком раннего возраста, с исключением его речи, показывает, что ребенок вовсе не воспринимает мир как количество или сумму отдельных вещей, что его восприятие носит синкретический характер, т. е. оно целостно, более или менее связано в группы, что его восприятие и представление о мире ситуационно. Если мы подойдем к этим фактам с точки зрения развития детской речи, мы увидим, что в раннем возрасте у ребенка действительно возникают отдельные слова, потом возникает связь между двумя словами, позже появляются предложения с подлежащим и сказуемым. Затем складывается стадия развития, когда ребенок уже говорит сложные предложения и, наконец, устанавливает связь между отдельными элементами главного и придаточного предложения. Анализ опыта с картинкой в основном позволяет, следовательно, расчленить развитие мышления и речи у ребенка и показать, что развитие мышления и речи у него не совпадает, а идет по различным путям. Попытаемся исправить те недоразумения, которые могут возникнуть в толковании полученных фактов. Первое недоразумение может иметь следующий характер. Мы утверждали, что ребенок 3 лет описывает картинку так, как он разговаривает, но воспринимает и мыслит картинку он иначе. Следовательно, если бы мы захотели символически изобразить кривую развития речи и мышления, то отдельные точки этих кривых не совпали бы. Но значит ли это, что развитие речи и мышления совершенно не зависит друг от друга, значит ли, что ребенок в речи не проявляет известную степень развития мышления? Это недоразумение необходимо разъяснить. Мы должны показать, что, хотя развитие мышления и речи у ребенка не совпадает, они развиваются в теснейшей зависимости друг от друга. Задача этой главы — показать, что развитие речи ребенка влияет на мышление и перестраивает его. Начнем со второй задачи, как с более простой. Для того чтобы в ней разобраться, нужно прежде всего установить, что мышление ребенка, как и ряд других функций, начинает развиваться до развития речи. В первые годы жизни развитие мышления протекает более или менее самостоятельно, но в известных пределах совпадает с кривой развития, речи; даже у взрослых людей функция мышления может остаться до некоторой степени независимой и не связанной с речью. Мы знаем простые опыты, например опыты Келера, посвященные психологии животных. Эти опыты устанавливают доречевые корни мышления. В области развития ребенка есть исследования других авторов, например опыты Тудор-Гарт и Г. Гетцер над ребенком 6 месяцев. Эти авторы следили за его обращением с предметами, они могли наблюдать предварительную ступень, или зачатки мышления, которым ребенок оперирует в конкретной ситуации, манипулируя предметами, употребляя их в качестве простейших орудий. Зачатки мышления более, определенно обнаруживаются у ребенка 10 месяцев. Ребенок 9—12 месяцев помимо инстинктивных, врожденных реакций, помимо условных рефлексов, обнаруживает уже навыки, которые вырабатываются в раннем возрасте. Он обладает довольно сложным аппаратом приспособления к новой ситуации. Например, ребенок при употреблении орудий улавливает основные отношения между предметами, по большей части заключающиеся еще в их простейших формах. Все 42 десятимесячных ребенка, которых наблюдали Тудор-Гарт и Гетцер, поступали так; когда погремушка, к которой был привязан шнурок, падала на землю, они улавливали связь погремушки со шнурком и, после тщетной попытки достать погремушку рукой, тащили за шнурок и таким путем пытались достать игрушку. Больше того, наблюдения показали, что ребенок этого возраста не только способен уловить простейшие отношения между предметами, не только способен простейшим образом употребить один предмет как орудие, но, для того чтобы пододвинуть к себе другой предмет, он сам создает связь и сложные отношения между предметами. Ребенок пытается употребить один предмет в качестве орудия для овладения другим предметом гораздо чаще, чем позволяет объективная ситуация. Младенец пытается одним шаром двигать другой шар не только тогда, когда шар лежит близко и он может достать его рукой, но и тогда, когда шар лежит за несколько аршин до него и когда между орудием и объектом не существует никакого контакта. Немцы называют это «Werkzeugdenken» в том смысле, что мышление проявляется в процессе употребления простейших орудий. У ребенка в 12 месяцев мышление проявляется уже значительно полнее и предшествует формированию речи. Следовательно, это есть доречевые корни детского интеллекта в собственном смысле слова. В последнее время мы получили в свои руки чрезвычайно ценные эксперименты с так называемыми представлениями. Что такое представление в старой психологии, нам известно: это следы раздражения, исходящего из среды, которое с субъективной стороны заключается в том, что все предметы, действующие на нас, мы часто, закрыв глаза, более или менее живо воспроизводим во внутреннем образе. Со стороны объективной мы еще не знаем в точности механизма представления, речь идет, видимо, об оживлении следовых раздражений. Опыты с так называемыми эйдетиками дали возможность экспериментировать над представлениями. Эйдетическое представление — такая степень в развитии памяти, которая в генетическом отношении занимает среднее место между восприятием, с одной стороны, и представлением в собственном смысле слова — с другой. Так как, с одной стороны, представления являются памятью в том смысле, что человек видит образ тогда, когда этого предмета перед ним нет, то, следовательно, мы имеем дело с представлением как с материалом мышления. С другой стороны, так как человек локализует видимые перед тем на экране образы и эти образы подчиняются главным законам восприятия, мы имеем возможность экспериментировать с этими образами как с восприятием: можем приближать и удалять экран, иначе освещать его, вводить различные раздражители и смотреть, что при этом получится. В последние годы Э. Иенш проделал такие опыты: он взял 14 эйдетиков и произвел с ними эксперимент в следующей ситуации. Он показал каждому из испытуемых настоящий плод, затем на некотором расстоянии показал палку с крючком. После того как предметы были убраны, эйдетики на экране увидели соответствующие образы: плода, палки и крючка. Когда испытуемым дали инструкцию подумать о том, как хорошо было бы этот плод съесть, то у 10 из 14 получился согласованный результат: если раньше палка и крючок были изолированы в поле зрения, то после инструкции палка с крючком сближались в поле зрения и приходили в положение, которое нужно в действительности для того, чтобы с помощью палки достать плод. Известное отвлечение внимания от палки приводило к тому, что эта связь снова расстраивалась и палка отодвигалась от крючка. Известно, что в наших восприятиях отдельные предметы оказываются подвижными и очень легко изменяются в отношении величины, места и зависят от направленного на них внимания. При наблюдениях над эйдетиками подвижность образов оказывается чрезвычайно большой. Таким образом Иеншу удалось показать, что как в представлениях, так и в следовых раздражениях очень легко происходит непосредственное зрительное слияние отдельных предметов. Эти эксперименты дали повод полагать, что Иенш получил модель того, каким способом не только животные в опытах Келера, но и дети, не обладающие речью, мысленно решают задачу. Происходит это следующим образом. Если в поле эйдетического зрения нет близко стоящих предметов, то в поле представления, в поле следовых стимулов происходит особое комбинирование предметов, соответствующее той задаче, той ситуации, в которой в данное время находится ребенок. Такая форма мышления называется натуральной, потому что она является природной, первичной. Это мышление основано на некоторых первичных свойствах нервного аппарата. Натуральная форма мышления отличается, во-первых, конкретностью того, что имеется перед ребенком, смыканием имеющегося в более или менее готовые ситуации и, во-вторых, динамикой, т. е. эйдетики производят комбинации, перемещение известных образов и форм. Иначе говоря, они производят в сенсорном поле те же изменения, которые руки производят в двигательном поле там, где человек берет палку и двигает ее в нужном направлении. Связь, которая замыкается на деле в двигательном поле, замыкается и в поле сенсорном. Я думаю, что этот опыт, физиологическое значение которого мы до конца еще не знаем, не противоречит тому, что нам известно о работе мозга. Мы знаем, что в нем нет двух центров, которые работают независимо друг от друга; наоборот, как общее правило, всякие два центра, одновременно возбужденные в мозгу, обнаруживают тенденцию замкнуть связь между собой. Значит, все возбужденные центры устанавливают какую-то связь между собой. Следовательно, при наличии двух впечатлений, двух условных рефлексов возможно предположить, что эти два впечатления дадут третий очаг, связанный с самой задачей (с желанием достать плод). Третий очаг связан с двумя первыми впечатлениями, следовательно, в коре головного мозга происходит перемещение раздражений. Мы видим, насколько опыты с эйдетиками сделали сдвиг в тех предположениях, которые были раньше; мы видим, что из опытов можно сделать совершенно неожиданные выводы по сравнению с тем, что мы знали раньше о воздействии друг на друга нервных центров. Представим себе теперь, до какой степени все развитие мышления ребенка изменяется в зависимости от работы сенсорного аппарата: когда глаза ребенка направлены на два предмета, происходит замыкание, образуется связь одного предмета с другим, ребенок переходит от натуральной формы мышления к куль турной, которую человечество выработало в процессе социальных отношений. Это имеет место тогда, когда ребенок переходит к мышлению с помощью речи, когда он начинает разговаривать, когда его мышление перестает быть только движением возбуждения от следа к следу, когда ребенок переходит к речевой деятельности, которая есть не что иное, как система очень тонких дифференцированных элементов, система комбинаций результатов прошлого опыта. Мы знаем, что ни одно речевое высказывание не повторяет в точности другого высказывания, а всегда представляет собой комбинацию высказываний. Мы знаем, что слова являются не просто частными реакциями, а частицей сложного механизма, т. е. механизма связи и комбинации с другими элементами. Возьмем наши падежи, изменения звука при склонении по падежам; лампа, лампы, лампе. Уже одно изменение конечного звука изменяет характер связи данного слова с другими словами. Иначе говоря, перед нами возникают те элементы, которые имеют как бы специальную связь, чтобы можно было сдвигать, комбинировать, передвигать отношения и путем комбинирования создавать новое целое. Получается нечто вроде ящика с мозаикой, где чрезвычайно много различных элементов и где при многообразнейшей связи можно, комбинируя элементы, создавать все новые и новые целые. Получается как бы специальная система навыков, по природе являющихся материалом для мышления, т. е. для создания новых комбинаций, иначе говоря, средствами для выработки такой реакции, которая в непосредственном опыте еще ни разу не вырабатывалась. Вернемся к экспериментам. Они показывают, что решающие изменения в поведении ребенка наступают тогда, когда ребенок в опыте с эйдетическим употреблением орудий вводит слова — речь. Уже Иенш показал, что вся эта операция, несложная с эйдетической точки зрения, — система «орудие и плод» — сейчас' же расстраивается, как только ребенок пытается словесно сформулировать, что он должен сделать и что перед ним происходит; в этом случае ребенок сразу же переходит к новым формам решения задачи. Те же факты имеют место и в известных опытах Липманна. Он вводил испытуемого в комнату, где ему предлагалось сделать более или менее сложную операцию, скажем, достать шар со шкафа, причем шар лежал на самом краю шкафа, очень неустойчиво и нужно было употребить орудие для того, чтобы шар достать. Липманн в первый раз говорил испытуемому: «Достаньте, пожалуйста, шар со шкафа», — и следил, как испытуемый выполнял задачу. В другой раз говорил: «Достаньте, пожалуйста, шар со шкафа», — и, как только испытуемый начинал выполнять задачу, подавал сигнал: «Стоп!» и просил: «Сначала расскажите на словах, как вы это сделаете», — и опять следил, как испытуемый выполнял задачу. Исследователь сравнивал, как задача выполнялась с предварительным словесным решением и без слов, на деле. Оказывается, характер решения задачи совершенно разный; одну и ту же задачу мы решаем по-разному, в зависимости от того, целимся ли глазом на лежащий шар или решаем ее с помощью слова. В первый раз реакция идет от действия, когда я хочу руками измерить расстояние от лежащего передо мной предмета, во второй раз я решаю задачу словами, я анализирую всю ситуацию на словах. Понятно, что с помощью слов можно делать любые комбинации, которые рукой нельзя сделать. В словах можно передать любой образ, который соответствует величине шара, его цвету. На словах можно придать предмету добавочные свойства, включая даже и те, которые при первом выполнении задачи не нужны. Будет понятно, если я повторю вслед за Липманном, что на словах я могу извлечь самый экстракт, самое существенное в ситуации и оставить вне поля действия свойства ситуации, которые несущественны с точки зрения моей задачи. Слова помогают, во-первых, извлечь экстракт и, во-вторых, комбинировать лю- бые образы. Вместо того чтобы лезть на шкаф или брать палку, чтобы достать шар, я с помощью слов в одну минуту могу нарисовать два-три плана действий и остановиться на одном из них. Таким образом, при решении задачи на словах и на деле получается совершенно разный принцип подхода к выполнению задачи. Я имел случай наблюдать, как протекает опыт с детьми, перед которыми поставлена задача, связанная с употреблением орудий. Ситуация была сходна с ситуацией Келера. Ребенок помещался в кроватку с сеткой, в поле зрения его находился плод, тут же находилось несколько палок. Ребенок должен достать плод, но перед ним — сетка. Задача заключалась в том, чтобы приблизить плод к себе. Когда ребенок пробует достать плод рукой, он натыкается на сетку. Как показал опыт Келера, обезьяна почти никогда сразу не догадывалась гнать плод в противоположном направлении, а пользовалась сначала непосредственной реакцией, подтягивая плод к себе. Только когда плод падал, обезьяна прибегала к обходному пути, чтобы подогнать его к себе. Ребенок младшего возраста решает задачу с гораздо большим трудом, с большими задержками и обнаруживает очень интересное поведение. Обычно ребенок чрезвычайно взволнован и при этом обнаруживает эгоцентрическую речь, т. е. он не только пыхтит, меняет палки, но еще беспрестанно говорит. Говоря, он выполняет две функции: с одной стороны, он действует и обращается к присутствующим, а с другой — что самое важное — ребенок в словах планирует отдельные части операции. Например, когда экспериментатор убирает палку так, что ребенок ее не видит, а задача заключается в том, чтобы достать плод, который лежит за сеткой, что можно сделать лишь с помощью палки. Ребенок не может просунуть руку дальше, потому что ему мешает сетка. Он должен придвинуть плод со стороны, затем обойти сетку и спланировать два этапа операции — направить плод, который надо достать, побежать и взять его в руки. Тут особенно интересен такой момент: если палки вовсе нет, то ребенок пытается достать плод рукой, ходит по кроватке, растерянно осматривается, но как только его внимание направляется на палку, совершается резкое изменение ситуации, как будто ребенок узнает, что ему делать, и задача сразу решается. У ребенка более старшего возраста та же операция проходит иначе. Сначала ребенок обращается к взрослым с просьбой подать палку, чтобы чуть-чуть пододвинуть плод: ребенок обращается к словам как к средству мышления, как к средству, которое позволяет при помощи взрослых выйти из затруднительного положения. Затем ребенок начинает сам рассуждать, причем рассуждения часто выливаются в новую форму: ребенок раньше говорит, что надо сделать, потом делает. Он говорит: «Теперь нужна палка» или: «Теперь я достану палку». Получается совершенно новое явление. Раньше, если палка была, операция удавалась, если палки не было, операция не удавалась. Теперь ребенок сам ищет палку, и если ее нет, то он сам, судя по произносимым словам, подыскивает нужный предмет. Самое интересное получается, однако, в опыте с подражанием. Пока старший ребенок решает задачу, младший смотрит. Когда старший ребенок решил задачу, берется решать младший, и мы следим, насколько младший ребенок умеет подражать и воспроизводить готовое решение. Оказывается, если операция сколько-нибудь сложная, ситуация меняется: здесь процесс подражания заключается уже в том, что, когда один ребенок действует, другой производит операцию на словах. Если ему удалось оформить решение на словах, то получается решение, которое получилось у Липманна, просившего испытуемых сначала говорить на словах, а потом начинать сам процесс подражания. Естественно, что в более или менее сложной задаче процесс подражания зависит от того, насколько ребенок отделял существенное и несущественное в операции. Вот пример. В наиболее простом случае старший ребенок, которому подражает младший, раньше чем решить задачу, тянется через сетку и пытается рукой достать плод. После тщетной попытки он достает палку и таким образом открывает путь к решению задачи. Ребенок младшего возраста, уловив всю ситуацию, подражая старшему, начинает с того, чем кончает старший ребенок: он ложится, тянется рукой, но заранее знает, что плод достать рукой невозможно. Тогда он воспроизводит шаг за шагом всю операцию, проделанную старшим. Положение существенно меняется, как только младший понял, в чем дело. Тогда он воспроизводит в ситуации только то, что оформил словами. Он говорит: «Надо с той стороны достать»; «Надо встать на стул». Однако здесь ребенок воспроизводит не всю зрительную ситуацию, а лишь ту, что он решил на словах. При наблюдении двух форм мышления у ребенка — при помощи наглядной ситуации и при помощи слов — мы замечаем то же видоизменение моментов, которое мы раньше замечали и при развитии речи. Сначала, как правило, ребенок действует, потом говорит, и его слова являются как бы результатом практического решения задачи; на этом этапе ребенок в словах не может отделить, что было раньше, что позже. В опыте, когда ребенок должен выбрать один или другой предмет, он сначала выбирает, а потом объясняет, почему выбрал. Если ребенок из двух чашек выбирает ту, в которой лежит орех, он фактически выбирает ее, не зная, что там лежит орех, но на словах ребенок говорит: выбрал потому, что в чашке орех. Иначе говоря, слова являются лишь заключительной частью практической ситуации. Постепенно, приблизительно на грани 4—5 лет, ребенок переходит к одновременному действию речи и мышления; операция, на которую реагирует ребенок, растягивается во времени, распределяясь на несколько моментов; речь появляется в виде эгоцентрической речи, возникает мышление во время действия; уже позднее наблюдается полное их объединение. Ребенок говорит: «Я достану палку», идет и достает. Сначала эти отношения еще колеблются. Наконец, приблизительно в школьном возрасте, ребенок начинает раньше планировать в речи нужное действие и лишь вслед за этим выполняет операцию. Во всех областях деятельности ребенка мы находим ту же последовательность. Так происходит и в рисовании. Маленький ребенок обычно раньше рисует, потом говорит; на следующей стадии ребенок говорит о том, что он рисует, сначала по частям; наконец, формируется последняя стадия: ребенок раньше говорит, что нарисует, потом рисует. Попытаемся в двух словах представить ту колоссальную революцию, которая происходит у ребенка, когда он переходит к мышлению с помощью речи. Здесь можно провести аналогию с той революцией, которая происходит тогда, когда человек впервые переходит к употреблению орудий. Относительно психологии животных очень интересны предположения Г. Дженнингса: для каждого животного можно определить инвентарь его возможностей исключительно по его органам. Так, рыба не может летать ни при каких обстоятельствах, но она может производить плавательные движения, которые определяются ее органами. До 9 месяцев и человеческий ребенок всецело подчиняется тому правилу; вы можете составить инвентарь возможностей для ребенка исходя из структуры его органов. Но в 9 месяцев совершается перелом, с этого момента человеческий ребенок выходит из схемы Дженнингса. Как только ребенок в первый раз потянул за шнурок, привязанный к погремушке, или подтолкнул одной игрушкой другую, чтобы приблизить ее к себе, органология теряет прежнюю силу, и ребенок начинает отличаться в своих возможностях от животного, характер приспособления ребенка к окружающему миру решительно меняется. Нечто подобное происходит и в сфере мышления, когда ребенок переходит к мышлению с по- мощью речи. Именно благодаря такому мышлению мысль приобретает устойчивый и более или менее постоянный характер. Мы знаем свойства всякого простого раздражения, действующего на глаз: достаточно малейшего поворота глаза, чтобы изменился сам образ. Вспомним эксперимент с так называемым последовательным образом: мы глядим на синий квадрат, когда его убирают, мы видим на сером экране желтое пятно. Это форма простейшей памяти — инерция раздражения. Попробуем перевести глаза вверх — квадрат поднимается вверх, переведем глаза в сторону — квадрат переходит в сторону. Отодвинем экран — отодвигается квадрат, придвинем — он придвинется. Получается страшно неустойчивое отражение мира в зависимости от того, на каком расстоянии действуют раздражения, под каким углом и каким способом они действуют на нас. Представим себе, говорит Иенш, что было бы с маленьким ребенком, если бы он находился во власти эйдетических образов: мать, которая стоит в десяти шагах от него, и мать, которая подошла ближе, должна была бы вырасти в глазах ребенка в десять раз. Величина каждого предмета должна была бы значительно изменяться. Животное, большое и мычащее, на расстоянии ста шагов ребенок должен был бы видеть, как муху. Значит, если бы не было корректирующей поправки на пространство в отношении к каждому предмету, то перед нами была бы в высшей степени неустойчивая картина мира. Второй недостаток образной, конкретной формы мышления с биологической точки зрения заключается в том, что решение конкретной единичной задачи относится только к данной наличной ситуации; мы не имеем здесь возможности сделать обобщение, раз решенная задача не является уравнением, которое позволило бы перенести результат решения на всякую задачу с другими объектами. Развитие речи перестраивает мышление, переводит в новые формы. Ребенок, который при описании картинки перечисляет отдельные предметы, еще не перестраивает мышления; однако существеннейшим фактом является то, что уже здесь создается способ, на основе которого начинает строиться его речевое мышление. То, что ребенок называет отдельные предметы, имеет величайшее значение с точки зрения биологических функций его органов. Ребенок начинает расчленять бессвязную массу впечатлений, которые слились в один клубок, он выделяет, расчленяет глыбу синкретических впечатлений, которую нужно расчленить для того, чтобы между отдельными частями установить какую-то объективную связь. Не мысля словами, ребенок видит целую картину, и мы имеем основание предположить, что он видит жизненную ситуацию глобально, синкретически. Вспомним, насколько синкретично связаны все впечатления ребенка; вспомним, как этот факт отразился в причинном мышлении ребенка. Слово, которое отрывает один предмет от другого, является единственным средством для выделения и расчленения синкретической связи. Представим себе, какой сложный переворот происходит в мышлении ребенка, не владеющего словом, в особенности у глухонемого ребенка, если из довольно сложной комбинации вещей, которую он мыслит как целую большую картину, ему нужно выделить какие-то части или из данной ситуации выделить отдельные признаки предметов. Это операция, которая годами ждет своего развития. Теперь представим себе человека, владеющего словом, или, что еще лучше, — ребенка, которому взрослый показывает указательным пальцем на предмет: сразу из всей массы, из всей ситуации выделяется один предмет или признак и становится в центре внимания ребенка; тогда вся ситуация принимает новый вид. Отдельный предмет выделен из целой глыбы впечатлений, раздражение сосредоточивается на доминанте, и, таким образом, ребенок впервые переходит к расчленению глыбы впечатлений на отдельные части. Как же происходит и в чем заключается самое важное изменение в развитии мышления ребенка под влиянием его речи? Мы знаем, что слово выделяет отдельные предметы, расчленяет синкретическую связь, слово анализирует мир, слово — первое средство анализа; назвать предмет словом для ребенка — значит выделить из общей массы действующих предметов один. Мы знаем, как появляются первичные понятия у детей. Мы говорим ребенку: «Вот зайчик». Ребенок оборачивается и видит предмет. Спрашивается, как это отражается на развитии мышления ребенка? В этом акте ребенок от эйдетического, синкретического, наглядного образа, от определенной ситуации переходит к нахождению понятия. Как показывают исследования, развитие понятий у ребенка происходит под влиянием слова, но было бы ошибочно думать, что это единственный путь. Так мы думали до последнего времени, однако опыт над эйдетиками показал, что понятия могут образоваться и иным, «естественным» путем. В образовании понятий имеются две линии развития, и в области природных функций есть нечто, что соответствует той культурной сложной функции поведения, которая называется словесным понятием. Э. Иенш давал испытуемому задачу: он показывал какой-нибудь лист с ровными краями, затем тут же показывал ряд листьев с зубчатыми краями. Иначе говоря, он показывал восемь-десять предметов, которые имели очень много общего в строении, но были и листья с индивидуальными отличиями: так, один лист имел один зубец, другой — два-три зубца. Дальше, когда перед испытуемым проходил ряд этих предметов, перед ним ставили серый экран и следили, какой образ у испытуемого возникнет. Оказывалось, что иногда у него появлялся образ смешанный, такой, как получается при коллективной фотографии (в свое время психологи сравнивали процесс образования понятия с процессом коллективной фотографии). Сначала у ребенка нет общего понятия, он видит одну собаку, потом другую, потом третью, четвертую, получается то же, что на коллективной фотографии; то, что у собак разное, стирается, а то, что общее, — остается. Остается самое характерное, например лай, форма туловища. Следовательно, можно было бы думать, что понятие образуется у ребенка просто благодаря повторению одной и той же группы образов, причем одна часть признаков, которые часто повторяются, остается, а другие стираются. Экспериментальными исследованиями это не подтверждается. Наблюдения над ребенком показывают, что вовсе нет надобности ему видеть, скажем, 20 собак для того, чтобы у него образовалось первичное понятие о собаке. И обратно: ребенок может видеть 100 различных видов предмета, но из всего виденного нужного представления у него не получится. Очевидно, понятие образуется каким-то другим способом. У Иенша мы видим попытку проверить на экспериментах, что произойдет, если мы покажем серию связных предметов, например листьев с различными зубцами. Происходит ли при этом коллективная фотография или коллективный образ? Оказывается, нет. В этом опыте получаются три основные формы естественного образования понятий. При первой форме получается так называемый движущийся образ. Ребенок видит сначала один лист, затем лист начинает зазубриваться, образуется один зубец, потом второй, третий, этот образ возвращается к первому впечатлению. Образуется динамическая схема, действительные раздражения переходят одно в другое, получается лист в движении, которое объединяет все то, что раньше было стабильно. Другую форму объединения образа Иенш называет осмысленной композицией: из двух-трех образов, которые были перед нашими глазами, получается некий новый образ; он является не простой суммой двух или трех впечатлений, а осмысленным отбором частей; одни части отбираются, другие остаются, при этом возникают новые образы, целое является результатом осмысленной композиции. Э, Иенш давал эйдетикам рисунок таксы и затем путем проекции через волшебный фонарь на тот же экран давал изображение осла; в результате из двух образов различных животных у испытуемых получалось изображение высокой охотничьей собаки. Некоторые черты совпали, некоторые взяты из одного и другого образа, добавились новые черты, получилось превращение в новый образ. Третьей формы образования естественного понятия мы не будем касаться подробно. Опыты показали, что, во-первых, понятия не образуются чисто механическим путем, что наш мозг не делает коллективной фото1рафии так, чтобы образ собаки, например, накладывался на другой образ собаки и в результате получался некоторый итог в виде «коллективной собаки», что понятие образуется путем переработки образов самим ребенком. Таким образом, даже в натуральной форме мышления понятие не образуется из простого смещения отдельных черт, наиболее часто повторяющихся; понятие образуется через сложное видоизменение того, что происходит при превращении образа в момент движения или в момент осмысленной композиции, т. е. отбора некоторых значимых черт; все это происходит не путем простого смешения элементов отдельных образов. Если бы понятия образовывались механическим путем накладывания одного раздражения на другое, то всякое животное обладало бы понятием, потому что понятие являлось бы гальтоновской пластинкой. Однако даже умственно отсталый ребенок отличается от животных образованием понятий. Все исследования показывают, однако, что у умственно отсталых детей общие понятия образуются иначе; образование общего понятия есть именно то, что труднее всего вырабатывается у умственно отсталых детей. Самые яркие черты, по которым мышление умственно отсталого ребенка отличается от мышления нормального ребенка, как раз и будут заключаться в том, что умственно отсталый ребенок не овладевает прочно мышлением с помощью образования сложных понятий. Возьмем простой пример. Умственно отсталый ребенок, с которым я имел дело, решает арифметическую задачу. Как и многие отсталые дети, он неплохо владеет простым счетом: производит простейшие операции в пределах от 1 до 10, умеет сложить, вычесть, умеет ответить словесно. Он помнит, что выехал из города, где он живет, в четверг, 13-го числа; помнит, в котором часу это было. Это явление нередко встречается у умственно отсталых детей: у них бывает сильно развита механическая память, связанная с определенными обстоятельствами. С этим ребенком мы переходим к решению задач. Он знает: если от 10 отнять 6, то останется 4. Он это повторяет при одной и той же ситуации. Затем я изменил ситуацию. Если его, предположим, спрашиваешь: «В кошельке было 10 рублей, мать 6 рублей потеряла, сколько осталось?» — ребенок не решает задачу. Если принести монеты и заставить от 10 отнять 6, он быстро схватывает, в чем дело, и решает, что останется 4 монеты; когда мы дали ребенку такую задачу с моим кошельком, он решает ее. Но когда этому же ребенку дают задачу с бутылками: «В бутылке было 10 стаканов, 6 выпили, сколько осталось?» — он не может решить ее. Если принести бутылку, показать, отлить в стаканы, проделать всю операцию, ребенок снова решает задачу и тогда уже может решить подобную задачу и с ванной, и со всякой жидкостью. Но стоит спросить его: «Если от 10 аршин сукна отнять 6 аршин, сколько останется?» — он опять не решает задачи. Значит, здесь мы имеем почти ту же стадию, которую имеют и некоторые животные с выработанными так называемыми арифметическими псевдопонятиями, когда отсутствуют понятия отвлеченные, т. е. не зависящие от конкретной ситуации (бутылки, монеты) и в силу своей абстрактности становящиеся общими понятиями, применимыми ко всем случаям жизни, ко всякой задаче. Теперь мы видим, до какой степени умственно отсталый ребенок — раб конкретной ситуации, до какой степени снижено его приспособление. У него нет аппарата для выработки общего понятия, и поэтому он умеет приспосабливаться лишь в пределах узкой ситуации. Мы видим, как трудно ему приспособиться там, где нормальный ребенок, один раз усвоивший, что 10-6=4, всегда будет так решать задачу, независимо от конкретной ситуации. И последний пример с умственно отсталым ребенком, которого обучают при помощи плана пройти довольно сложное расстояние в Берлине. Ребенок постепенно овладевает этим планом и ходит правильно по выученному пути. Вдруг ребенок заблудился. Оказалось, тот дом на углу, около которого он должен повернуть на другую улицу и который в плане был отмечен крестиком, забран в леса для ремонта. Вся ситуация изменилась. Ребенок потерялся, возвращаться один он не привык, поэтому пошел бродить и попал во власть случайных раздражений, которые его стали развлекать. На этом примере исключительно ясно видно, до какой степени верно и бесспорно, что если умственно отсталый ребенок не имеет аппарата для выработки отвлеченных понятий, то он в высшей степени ограничен и в приспособлении, Он становится в высшей степени ограничен в этом отношении, когда его аппарат для выработки понятий подпадает под власть конкретного мышления и конкретной ситуации. |
|