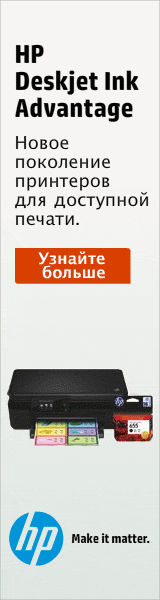|
Западники и славянофилы о путях развития РоссииТак, по его убеждению, Россия ничего не имела против преобразований Петра Великого, к тому времени «она только о том и мечтала, чтобы войти в великую семью христианских народов; идея человека уже проникла во все поры ее существа и боролась в ней не без успеха с заржавевшей идеей почвы».[20] В русской культуре историческое не совпадает с логическим. Это и подчеркивает в письмах к разным людям Чаадаев: «Мы не владеем силлогизмом Запада»; «орган причинности… остался без развития в нашем бедном мозгу». История России – не история идей. «Дело в том, что идея никогда не властвовала среди нас; мы никогда не были движимы великими верованиями, могучими убеждениями»[21]. д) РезюмеОднако было бы ошибочным думать, что славянофилы относились к петровской реформе с отрицанием безусловным, всесторонним. Многое в ней они признавали необходимым. Но им претил дух автократорства, государственного абсолютизма, которым она была проникнута. После Петра русского самодержавия уже не существует. Земский тип государства сменяется типом полицейским. „Власть обставляется такими мерами политической предосторожности, как-будто русский монарх есть завоеватель или узурпатор".[22] Чем дальше, тем все сильнее возрастал гнет государственной власти над народом, тем все более и более чуждыми становились русскому народу его императоры. „Вся земля русская, - утверждал А. С. Хомяков, - превратилась как бы в корабль, на котором слышатся лишь слова немецкой команды".[23] Вот к чему привел петровский переворот! С тех пор Государство стало систематически вторгаться во внутреннюю жизнь Земли, нарушать пределы своей компетенции. „И на этом внутреннем разладе, как дурная трава, выросла непомерная, бессовестная лесть, уверяющая во всеобщем благоденствии, обращающая почтение к царю в идолопоклонство, воздающая ему, как идолу, божескую честь".[24] Как мы видим западники и славянофилы абсолютно по-разному относились к деятельности Петра. Но что так же нетрудно заметить иногда западники думали как славянофилы и наоборот. Более того не у той не у другой стороны не было единого мнения как по поводу оценки деятельности Петра Великого, так и по другим вопросам. Что интересно даже одни и те же деятели в разное время имели несколько различное мнения (взять хотя бы Белинского, который так полностью и не сформировал своей философии), что в принципе свидетельствует о бурном развитии Русского общества. Но, тем не менее, суммарная ориентация и тех и других векторных полей была вышеописанной. 4) Религиозный вопросГоворя о западниках и славянофилах, как уже было отмечено выше нельзя упускать из рассмотрения и религиозный вопрос. Как по предыдущему вопросу, так и по религиозному у рассматриваемых течений не было общего мнения. Эта тема так же важна тем, что без неё невозможно представить полную картину взглядов, как на тогдашнюю действительность, так и на возможные пути развития России. а) СлавянофилыСреди славянофилов в развития религиозного вопроса прежде всего выделились такие люди, как А.С. Хомяков, И.В. и П.В Киреевские К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. Уже в двадцативосьмилетнем возрасте Киреевский изложил планы по привлечению своих друзей к работе на благо родины на литературном поприще: «Чего мы не сделаем общими силами?.. Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога».[25] Религия, о которой Киреевский говорил в этот период своей жизни, не являлась православием. Это может подтвердить случай, имевший место семь лет спустя (1834). Женившись на Наталье Петровне Арбеневой, Киреевский не был доволен соблюдением ею церковных обрядов и обычаев. Она же, со своей стороны, по словам Кошелева, была глубоко опечалена отсутствием в нем веры и полным пренебрежением к обычаям православной церкви. Киреевский, уважая религиозные чувства своей жены, обещал при ней не кощунствовать[26]. Несомненно, Киреевский сохранил некоторую религиозность со времени своей юности, однако трудно сказать, насколько он был крепок в благочестии. Кошелев говорил, что в философском обществе, членом которого был Киреевский, немецкая философия «вполне заменяла молодым людям религию»[27] Однако известно, что даже в этот период свой жизни Киреевский больше времени уделял Евангелию, чем другим книгам. В 1830 г., находясь в Берлине, он просил сестру вписывать в каждое свое письмо какой-нибудь текст из Евангелия. Этим он хотел предоставить ей еще один благоприятный случай для ознакомления с евангелием, а также для того, чтобы ее письма «сколько можно выливались из сердца». В то же самое время Киреевский проявил способность к схватыванию тех неуловимых оттенков душевной жизни, которые близки к мистическому опыту и вынуждают нас верить в существование глубоких и внутренних связей между людьми и всеми живыми существами вообще. Религия на философской основе, мистицизм сочетались в молодом Киреевском с горячей любовью к России и верой в ее великое назначение. Киреевский говорил, что в современной истории всегда «...одно государство было столицею других, было сердцем, из которого выходит и куда возвращается вся кровь, все жизненные силы просвещенных народов».[28] Отвращение Киреевского к мелочному рационализму Запада можно видеть из письма, в котором он подвергает критике лекцию Шлейермахера о воскресении Иисуса Христа. Поверхностность лекции Шлейермахера Киреевский объяснял тем, что «сердечные убеждения образовались в нем отдельно от умственных». «Вот отчего он верит сердцем и старается верить умом. Его система похожа на языческий храм, обращенный в христианскую церковь, где все внешнее, каждый камень, каждое украшение напоминает об идолопоклонстве, между тем как внутри раздаются песни Иисусу и Богородице»[29]. В этих критических замечаниях мы уже можем видеть основной принцип, лежащий в основе более поздних выводов Киреевского, принцип, в котором (как он впоследствии признал) и состоит главное достоинство русского ума и характера. Таким принципом является цельность. Человек должен стремиться «...собрать в одну неделимую цельность все свои отдельные силы, которые в обыкновенном положении человека находятся в состоянии разрозненности и противоречия; чтобы он не признавал своей отвлеченной логической спо¬собности за единственный орган разумения истины; чтобы голос восторженного чувства, не соглашенный с другими силами духа, он не почитал безошибочным указанием прав¬ды; чтобы внушения отдельного эстетического смысла, неза¬висимо от других понятий, он не считал верным путеводи¬телем для разумения высшего мироустройства (чтобы даже внутренний приговор совести, более или менее очищенной, он не признавал, мимо согласия других разуметельных сил, за конечный приговор высшей справедливости); даже чтобы господствующую любовь своего сердца, отдельно от других требований духа, он не почитал за непогрешительную руко¬водительницу к постижению высшего блага; но чтобы посто¬янно искал в глубине души того внутреннего корня разуме¬ния, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цель¬ное зрение ума» На высокой стадии нравственного развития разум поднимается до уровня «духовного зрения», без которого невозможно обнять истину божественную. Способ мышления возвышается до «сочувственного согласия с верой».[30] При этом условии вера (и откровение) представляет для разума «...авторитет вместе внешний и внутренний, высшую разумность, живительную для ума» (I, 250). «Вера — не достоверность к чужому уверению, но действительное событие внутренней жизни, чрез которое человек входит в существенное общение с Божественными вещами (с высшим миром, с небом, с Божеством)». Другими словами, Киреевский верил, что посредством объединения в одно гармоническое целое всех духовных сил (разума, чувства, эстетического смысла, любви, совести и бескорыстного стремления к истине) человек приобретает способность к мистической интуиции и созерцанию, которые делают для него доступной суперрациональную истину о Боге и его отношении к миру. Вера такого человека является не верой во внешний авторитет, в букву написанного откровения, а верой в «живое и цельное зрение ума». Истоки такой философии Киреевский находит в сочинениях отцов церкви. Завершение развития их учения, «...соответственное современному состоянию науки и сообразное требованиям и вопросам современного разума...», устранило бы,— говорит Киреевский,— «...болезненное противоречие между умом и верою, между внутренними убеждениями и внешнею жизнью».[31] Это знание, которое зиждется на полном единстве всех духовных сил, коренным образом отличается от знания, выработанного абстрактным логическим мышлением, в отрыве от воли. Правда, так как «...человек мыслящий должен провести свои познания сквозь логическое иго, то, по крайней мере, он должен знать, что здесь не верх знания, и есть еще ступень, знание гиперлогическое, где свет не свечка, а жизнь. Здесь воля растет вместе с мыслью».[32] В таком знании мы придем к «невыразимости», к тому, что относится к области «неразгаданного». Здесь Киреевский, очевидно, имел в виду восприятие «металогических» принципов бытия, лежащих глубже, чем качественные и количественные определения. Друг Киреевского славянофил Кошелев рассказывает. Киреевский женился в 1834 г. На втором году супружества он предложил своей жене прочесть Кузэна. Она прочитала книгу и нашла в ней много достоинств. Однако она сказала, что в сочинениях св. отцов «все это изложено гораздо глубже и удовлетворительнее». Позднее они вместе читали Шеллинга, «и когда великие, светлые мысли их останавливали и Киреевский требовал удивления от жены своей, то она сначала отвечала ему, что эти мысли ей известны из творений Св. отцов». Киреевский тайком брал книги жены и читал их с большим увлечением. К этому времени относится его знакомство с иноком Филаретом. «...в 1842 году кончина старца Филарета окончательно утвердила его на пути благочестия». Киреевский не рассматривал философию отцов церкви как нечто завершенное, не требующее дальнейшего развития. Грановский приписывает ему слова: «В творениях св. отцов нечего добавлять, там все сказано».[33] Это обычный пример несправедливого отношения к славянофилам. В своей статье о возможности и необходимости новых начал для философии Киреевский писал, что было бы большой ошибкой думать о наличии в сочинениях отцов церкви готовой философии. Наша система философии, говорит он, еще будет создана, и создана не одним человеком. Способ мышления, найденный Киреевским у отцов восточной церкви («безмятежность внутренней цельности духа»), был воспринят вместе с христианством. Как известно, культура русского народа находилась на особенно высоком уровне развития в XII и XIII вв. Основные черты древнерусской образованности—цельность и разумность. Западная же образованность построена на принципах рационализма и дуализма. Это различие видно из многочисленных фактов: 1) на Западе мы видим богословие, опирающееся на абстрактный рационализм, доказательство истины при помощи логического связывания понятий, а в старой России — стремление к истине посредством «...стремления к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного» на Западе государство возникло на базе насилия и завоевания, в старой России оно возникло в результате естественного развития национальной жизни; 3) на Западе мы видим разделение на враждебные классы, в старой России-— их единодушие; 4) на Западе земельная собственность является основой гражданских отношений, в старой России собственность — случайное выражение личных взаимоотношений; 5) на Западе существует формальная логическая законность, в старой России законность вытекает из самой жизни. Короче говоря, на Западе мы можем наблюдать раздвоение духа, науки, государства, классов, семейных прав и обязанностей, а в России, напротив, «...стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего...», «...постоянная память об отношении всего временного к вечному и человеческого к Божественному...». Таковой была жизнь старой России, черты которой сохранились в народе и в настоящее время. Говоря о «Богословии» епископа Макария, Киреевский отмечает, что введение к этой книге содержит понятия, несовместимые с нашей церковью, например о непогрешимости иерархии, как будто дух святой находится в иерархии отдельно от совокупности всего христианства.[34] Из понимания целостности как свободной общины возникает учение Киреевского о взаимоотношении между церковью и государством. Хомяков в свою очередь говорил, что «Живая истина» и особенно истина Божия не укладываются в границах логического постижения, которое есть только вид человеческого познавательного процесса. Они являются объектом веры (не в смысле субъективной уверенности, а в смысле непосредственного данного). Вера не противоречит пониманию, несмотря на ее металогический характер. Конечно, необходимо, чтобы «бесконечное богатство данных, приобретаемых ясновидением веры, анализировалось рассудком».[35] Только там, где достигнута гармония веры и рассудка, имеется «всецелый разум». Под словом «вера» Хомяков, очевидно, подразумевает интуицию, т. е. способность непосредственного понимания действительной жизненной реальности, вещей в себе. Человек — ограниченное существо, наделенное рациональной волей и нравственной свободой. Эта свобода означает свободу выбора между любовью к Богу и себялюбием, другими словами, между праведностью и грехом. Этот выбор определяет окончательное отношение ограниченного разума к его вечной первопричине — Богу. Однако весь мир ограниченных умов, все сотворенное находится в состоянии действительного или возможного греха, и только отсутствие искушения или Божья милость спасает всех от греха. Поскольку сотворенный греховен, он подвластен закону. Но Бог сошел к сотворенному и указал ему путь свободы и спасения от греха. Он вошел в историю как Богочеловек и стал «воплощенным во Христе человеком, который, тем не менее, уразумел посредством единой силы своей человеческой воли всю полноту божественной правдивости». Вот почему Богочеловек Иисус Христос — верховный судья сотворенного во грехе, носитель «праведности Вечного Отца». Вот почему он будит в человеке полное сознание своей вины. В то же время он является и бесконечной любовью Отца. «Он объединяет себя с каждым, кто Его не отвергает»[36], всеми, кто прибегает к его помощи и любит его правду. Эта правда заключена им в его теле — церкви. Хомяков разработал понятие о церкви, как поистине органическом целом, как о теле, главой которого является Иисус Христос. Любящие Христа и божественную правду принадлежат Христу и становятся членами тела Христова. В церкви они находят новую, более полную и более совершенную жизнь по сравнению с той, которую они бы встретили вне её. Под словом «церковь» Хомяков всегда понимает православную церковь. Будучи телом Христа, церковь тяготеет к единству. Католицизм и протестантство отошли от основных принципов церкви не по причинам извращения истины отдельными личностями, а принципиально. Поэтому Хомяков не применяет к ним термин «церковь», а говорит о романтизме, папизме, латинизме, протестантстве и т. д. Но это ни в коей мере не означает, что он верил в осуществление православной церковью всей полноты правды на земле. Хомяков говорил, например, что наше духовенство имеет тенденцию к «духовному деспотизму». Он радуется, что православная церковь хранит в своих глубинах истинный идеал, но «в действительности», по его словам, никогда еще не было ни одного народа, ни одного государства или страны в мире, которые бы осуществили в полной мере принципы христианства. Хомяков рассматривал православие как одну истинную церковь, но ни в коей мере не был фанатиком. Он не понимал extra ecclesiam nulla salus (нет спасения вне церкви) в том смысле, что католик, протестант, иудей, буддист и так далее обречен на проклятие. В католицизме Хомяков находит единство без свободы, а в протестантстве — свободу без единства. В этих вероисповеданиях нашли свое осуществление только внешнее единство и внешняя свобода. Юридический формализм и логический рационализм римско-' католической церкви имели корни в римском государстве. Эти черты развились в ней сильнее, чем когда-либо, тогда, когда западная церковь, без согласия восточной, вставила слово ilioque2 (и от Сына) в никеоцарьградский символ веры. Подобное произвольное изменение символа веры является показателем гордыни и отсутствия любви к единодушию в вере. Хомяков рассматривает отказ протестантов от молитвы по усопшим, отрицание культа святых и пренебрежение к хорошему устройству церкви как выражение утилитарного рационализма, который не видит органической цельности видимой и невидимой церкви. Хомяков так описывает расхождение трех христианских верований: «Три голоса громче других слышится в Европе: «Повинуйтесь и веруйте моим декретам»,— это говорит Рим. «Будьте свободны и постарайтесь создать себе какое-нибудь верование»,— это говорит протестантство. А Церковь взывает к своим: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедимы Отца и Сына и Святого Духа». В свою очередь К. Аксаков идеализировал русскую историю сверх всякой меры. Он говорил, что русская история является «всеобщей исповедью» и что «ее можно читать так же, как житие святых». О скромности русского народа говорит тот факт, что все свои победы и достижения он приписывает не себе, а воле Божией. Русские не сооружают памятников в честь народа и его великих людей, а славят Бога молебнами, шествиями и воздвигают церкви. Что же касается Самарина, то он писал: «...сердцевина понятия о Боге заключает в себе непосредственное ощущение, его действия на каждого человека — начальная форма и предпосылка дальнейшего откровения. Стало быть, у религии вообще и у естественных наук одна почва: личный опыт». «...высокое значение, которое человек с полным правом придает своей личности, не может ни на чем другом основываться, как на идее Промысла, и не иначе . может быть логически оправдано, как предположением Всемогущего Существа, которое не только каждого человека доводит до сознания нравственного призвания и личного долга, но вместе с тем и внешне, от субъекта совершенно не зависящие события и обстоятельства его жизни располагает таким образом, что они находятся и пребывают в определенном, для человеческой совести легко познаваемом отношении к этому призванию. Только при условии признания такого рода отношения между тем, чем человек должен быть, и тем, что с ним случается, каждая человеческая жизнь слагается в разумное целое». б) ЗападникиЗападники являлись, по преимуществу, светскими людьми. В их представлениях зачастую вовсе не было места религиозной вере и сакрализации, ибо модель западной культуры, по образцу которой они хотели построить свою собственную, представлялась им вполне мирской. Религиозная вера и сакрализация общественной жизни либо отрицались полностью (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. П. Боткин), либо носили неустойчивый характер (у так называемых «умеренных» представителей данного течения Т. Н. Грановского, П. Н. Кудрявцева, А. Д. Галахова, П. В. Анненкова, К. Д. Кавелина и др.). Не соглашаясь с официальным православием, «умеренные» западники все же верили в Бога и в бессмертие души[37]. Не менее интересным является и мнение западников, а прежде всего Чаадаева, Философское мировоззрение которого носит ярко выраженный религиозный характер, Чаадаев говорит, что желающие сочетать идеи истины и добра должны «стремиться проникнуться истинами откровения». Однако лучше всего «...целиком положиться на те столь частые случаи, когда мы сильнее всего подпадаем действию религиозного чувства на нашу душу, и нам кажется, что мы лишились лично нам принадлежащей силы и против своей воли влечемся к добру какою-то высшей силой, отрывающей нас от земли и возносящей на небо. И вот тогда именно, в сознании своей немощи, дух наш раскроется с необычайной силой для мыслей о небе, и самые высокие истины сами собой потекут в наше сердце».[38] Две силы являются действенными в нашей жизни. Одна из них находится внутри нас — «несовершенная», а другая стоит вне нас — «совершенная». От этой «совершенной» силы мы получаем «...идеи о добре, долге, добродетели, законе...».[39] Они передаются от поколения к поколению благодаря непрерывной преемственности умов, которая составляет одно всеобщее сознание, «Да, сомненья нет, имеется абсолютное единство во всей совокупности существ ...это факт огромной важности, и он бросает чрезвычайный свет на великое Все: он создает логику причин и следствий. Так же Чаадаев утверждал, что наше «пагубное я» в какой-то мере разобщает человека с «природой всеобщей». «Время и пространство — вот пределы человеческой жизни, какова она ныне». В результате такого разобщения нам является внешний мир. «Необходимо только иметь в виду, что количеств, собственно говоря, в природе не существует... Действительные количества, т. е. абсолютные единицы, имеются лишь в нашем уме...».[40] Ему так же принадлежит мысль, что «Христианское учение рассматривает совокупность всего на основе возможного и необходимого перерождения нашего существа...» Это означает, «...что наша ветхая природа упраздняется и что зарождается в нас новый человек, созданный Христом[41]. «Удивительное понимание жизни, принесенное на землю создателем христианства; дух самоотвержения; отвращение от разделения; страстное влечение к единству: вот что сохраняет христиан чистыми при любых обстоятельствах. Так сохраняется раскрытая свыше идея, а через нее совершается великое действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну душу, в единую силу. Это слияние — все предназначение христианства. Истина едина: Царство Божие, небо на земле, все евангельские обетования — все это не иное что, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль самого Бога, иначе говоря,— осуществленный нравственный закон»[42]. «Как известно, христианство упрочилось без содействия какой бы то ни было книги... Его божественный разум живет в людях, таких, каковы мы и каков он сам, а вовсе не в составленной церковью книге».[43] «И вот почему упорная привязанность со стороны верных преданию к поразительному догмату о действительном присутствии тела Христова в евхаристии и их не знающее пределов поклонение телу спасителя столь достойны уважения». Этот догмат об евхаристии «сохраняется в некоторых умах... нерушимым и чистым... Не для того ли, чтобы когда-нибудь послужить средством единения между разными христианскими учениями?».[44] По поводу религиозных мировоззрений Станкевича, можно привести его слова о том, что вся природа является одним единым организмом, эволюционирующим в сторону разума. «Жизнь есть любовь. Вечные законы ее и вечное их исполнение — разум и воля. Жизнь беспредельна в пространстве и времени, ибо она есть любовь. С тех пор как началась любовь, должна была начаться жизнь; покуда есть любовь, жизнь не должна уничтожиться, поскольку есть любовь, и жизнь не должна знать пределов». Женщину Станкевич считал священным существом. Не напрасно, говорил он, Дева Мария и Божия Матерь суть главные символы нашей религии. В письме к Л. А. Бакуниной, говоря о самообразовании, Станкевич советует ей отказаться от попыток постепенного устранения недостатков в человеке. По его словам, достаточно указать на общую причину этих недостатков — отсутствие любви, Он советует думать о том прекрасном, что есть в мире, а не о том, что несовершенно в нем. Станкевич писал Грановскому: «Помни, что созерцание необходимо для развития мышления». «Вообще, если трудно становится решить что-нибудь, переставай думать и живи. В сравнениях и выводах будет кой-что истинное, но верно вполне схватишь вещь только из общего живого чувства». Что касается Белинского то в письме к Боткину (1841) он писал: «Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны... Благодарю покорно, Егор Федорыч[45], кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр., и пр., иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братии по крови,— костей от костей моих и плоти от плоти моей. ...судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора. В 1841 г. Белинский, предавая забвению свое недавнее беспокойство за «жертвы истории», писал Боткину: «Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную».[46] Из сочинений Белинского не видно, что он стал материалистом, хотя, правда, в последние годы своей жизни он совершенно перестал ссылаться на сверхчувственные основы мирового бытия. В феврале 1847 г. Белинский писал Боткину: «Метафизику к чорту: это слово означает сверхнатуральное, следовательно, нелепость... Освободить науку от призраков, трансцендентализма и thly» (теологии).[47] Возможно, у многих возникнет вопрос: был ли в конце своей жизни Белинский действительно атеистом. В письме к Гоголю о его книге «Выбранные места из переписки с друзьями» Белинский отзывается о русской православной церкви по большей части с неприязнью и утверждает, что русские «по натуре глубоко атеистический народ». Во Франции, пишет он, «...многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то Бога» (15 июля 1847 г.).[48] Но шесть месяцев спустя в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», написанной незадолго до смерти, Белинский отмечал следующее: «Искупитель рода человеческого приходил в мир для всех людей... Он — Сын Бога — человечески любил людей и сострадал им в их нищете, грязи, позоре, разврате, пороках, злодействах... Но божественное слово любви и братства не втуне огласило мир».[49] Герцен не был материалистом как в юные годы, так и в конце своей жизни. Когда его сын, физиолог, прочитал лекцию, в которой он доказывал, что вся деятельность людей и животных суть рефлексы и что, следовательно, нет места свободной воле, Герцен написал «Письмо сыну — А. А. Герцену». Понятие о свободе, развитое в этом письме, предполагает наличие объективного разума в основе природы. Относительно Герцена можно сказать, что на самом деле у него можно обнаружить лишь отрицательное отношение к религии, к идее личного Бога и личного бессмертия. 5) Вопрос о России и её судьбеДля России поиск путей своего великого, а не прозябающего развития всегда имел особое значение. Исконная русская духовность святой Руси, проявляющаяся, в отличие от утилитаризма и прагматизма Запада, в соборности, равенстве, справедливости, с одной стороны, была препятствием на пути превращения России в западную капиталистическую страну, а с другой стороны, предполагала, что Россия имеет более высокое предназначение в истории человечества, чем погрязший в коммерческом угаре Запад. Природная духовность и человечность русского народа, имеющие еще дохристианские языческие корни и ставшие важнейшей чертой русской ментальности, в критические моменты истории российского государства всегда помогали выйти из исторических тупиков, в которые его загоняли нерадивые правители. Поэтому в России всегда болезненно проходили прозападные реформы, что в полной мере относится и к реформам Петра Великого, и к либеральным реформам второй половина XIX века, и к сегодняшним реформам российских демократов неоконсервативного толка, направленных на деформацию и разрушение, прежде всего, духовности и гуманности нашего народа. С особой остротой вопрос о путях развития России был поставлен в середине XIX века, когда русская мыслящая интеллигенция, создавая великую русскую культуру, стала осознавать, что дальнейшее феодальное по своей сути развитие России себя уже исчерпало, а на Западе обещанное философами-просветителями общество света и разума, свободы, равенства и братства обернулось «царствием демона золотого тельца», то есть, оказалось чисто экономическим, а недуховным человеческим обществом. В силу столь большой важности вопроса, им занималось большое число человек, естественно возникли принципиально разные способы его решения, но опять основная полемика развернулась между западниками и славянофилами. а) СлавянофилыВысказываясь о судьбе России Киреевский писал: «Англия и Германия находятся теперь на вершине Европейского просвещения; ...их внутренняя жизнь уже окончила свое развитие, состарилась и получила ту односторонность зрелости, которая делает их образованность исключительно им одним приличною». Вслед им, полагает Киреевский, наступит черед России, которая овладеет всеми сторонами европейского просвещения и станет духовным вождем Европы.[50] По возвращении из-за границы Киреевский основал свой журнал «Европеец». Название этого журнала говорит о том, как высоко он оценивал роль России в ассимиляции принципов европейского просвещения. Мы не должны, однако, думать, что путешествие Киреевского на Запад, где он встречался с лучшими умами того времени, сделало его рабом Европы. Культура Запада неприятно поразила Киреевского своей односторонностью и узким рационализмом. Киреевский высоко оценивал немецкую ученость, но в общем Германия произвела на него впечатление страны «глупой», «дубовой», «хотя дубов в Германии, кроме самих немцев, почти нет». Здесь мы можем обнаружить характерные черты положения о «соборности», об общине, разработанных Хомяковым. Несомненно, идеал общественного порядка Киреевский видел в общине. Он говорит, что «отличительный тип Русского взгляда на всякий порядок...» заключается в «совмещении личной самостоятельности с цельностью общего порядка...». Разум западноевропейца «не вмещает порядка без однообразия».[51] Мы исповедуем, - писал Иван Аксаков, - по свободному искреннему убеждению такие начала, которые, по видимому, тождественны с началами, признаваемыми официальною властью, покровительствуемыми государством, защищаемыми всею его тяжеловесною мощью, и потому исповедуемыми целою массою людей лицемерно, из корысти, из лести, из страха. Но, во-первых, признавая эти начала истинными в их отвлеченности, мы отвергаем в большей части случаев всякую солидарность с их проявлением в русской современной действительности, с их русскою практикою; во-вторых, самое наше понимание этих начал и выводы, из них делаемые, нередко совершенно отличны от официального их толкования и от тех выводов, которые извлекают из них официальные ведомства".[52] Естественно, что славянофилы не могли быть угодными власти. Но, несмотря на все внешние препятствия, славянофильская мысль все же сумела выработать определенную, принципиально цельную идеологию не только в основной для нее области религиозной и философско-исторической, но и в сфере общественной философии. По вопросам второстепенного значения встречаются подчас и определенные разноречия, Тем не менее в главном, в основном, царит несомненное единство. Самый принцип самодержавия понимается всеми представителями чистого славянофильства одинаково. Тут между ними нет и не может быть противоречий. Право, как явление самостоятельное, как самодовлеющий принцип, решительно отвергалось славянофилами. Выражаясь современным научным языком (в терминах „западно-европейской науки"), они не признавали за правом специфического а рriori и отстаивали этическое а рriori права. Нельзя обосновать обязательность правовых велений биологически или утилитарно. „Идея о праве, - продолжает Хомяков, - не может разумно соединяться с идеею общества, основанного единственно на личной пользе, огражденной договором. Личная польза, как бы себя ни ограждала, имеет только значение силы, употребляемой с расчетом на барыш. Она никогда не может взойти до понятия о праве, и употребление слова „право" в таком обществе есть не что иное, как злоупотребление и перенесение на торговую компанию понятия, принадлежащего только нравственному обществу".[53] Понятие об обязанности, - пишет Хомяков, - находится в прямой зависимости от общего понятия человека о всечеловеческой или всемирной нравственной истине. Цель всякого закона, его окончательное стремление есть - обратиться в обычай, перейти в кровь и плоть народа и не нуждаться уже в письменных документах.[54] Киреевский и Хомяков были сторонниками идеи конкретности и цельности реальности. В двух статьях о Киреевском Хомяков полностью присоединяется к мнению последнего о формальном, сухом и рационалистическом характере европейской культуры и так же, как Киреевский, утверждает, что русская культура была вызвана к жизни идеалами разумности и цельности. Хомяков придавал величайшее значение русской деревенской общине, миру с его сходками, принимающему единодушное решение, и его традиционной справедливостью в соответствии с обычаем, совестью и внутренней истиной. В русской промышленности артель соответствует общине. В «Своде Законов» артель определена как компания, основанная на принципе совместных расходов и совместной ответственности производства работ или ведения торговли посредством личного труда ее членов. Последователь Хомякова Самарин полагает, что социальная и общинная жизнь древней Руси представляла собой воплощение принципа соборности. В противоположность Киреевскому и К. Аксакову, Хомяков не замазывает пороки русской жизни, а жестоко их бичует. В начале Крымской кампании 1854—1855 гг. (против Турции, Франции и Англии) со страстью и вдохновением пророка он осудил порядки современной ему России (перед реформами Александра II) и призвал ее к покаянию. Хомяков говорит, что аристократический режим воинственных народов чужд славянам, которые составляют земледельческую нацию. Мы, говорит он, всегда останемся демократами, отстаивающими идеалы гуманности. Западная Европа оказалась неспособной воплотить христианский идеал цельности жизни, потому что она переоценила логический способ познания и рациональность. Россия же до сих пор не смогла воплотить в жизнь этот идеал по той причине, что полная и всеобъемлющая истина по своей сущности развивается медленно, а также и по той причине, что русский народ уделяет слишком мало внимания разработке логического способа познания, который должен сочетаться со сверхлогическим пониманием реальности. Тем не менее Хомяков верил в великую миссию русского народа. Эта миссия будет осуществлена тогда, когда русский народ полностью проявит все духовные силы и признает принципы, лежащие в основе православия. Россия призвана, по его словам, стать в центре деятельности мировой цивилизации. История дает ей такое право, так как принципы, которыми она руководствуется, характеризуются завершенностью и многосторонностью. Это право дается только тому государству, на граждан которого возлагаются особые обязанности. Россия стремится не к тому, чтобы быть Богатейшей или могущественной страной, а к тому, чтобы стать «самым христианским из всех человеческих обществ». Хомяков питал искреннюю любовь к другим славянским народам. Он считал, что им присуще стремление к общественной и демократической организации. Хомяков надеялся, что все славяне, освобожденные с помощью России, образуют нерушимый союз. Что касается Аксакова, то его ненависть к Западной Европе была такой же сильной, как и любовь к России. Киреевский и Хомяков, указывая на пороки западной цивилизации, в то же время признавали ее достоинства. Они любили западную цивилизацию и настаивали на необходимости синтезирования ценных элементов западного и русского духа. К. Аксаков видел только темные стороны западной цивилизации: насилие, враждебность, ошибочную веру (католицизм и протестантизм), склонность к театральным эффектам, «слабость». В своем критическом очерке, посвященном Аксакову, С. Венгеров писал, что высокие качества, которые Аксаков приписывал русскому народу, могут быть названы «демократическим альтруизмом». Венгеров также писал, что Аксаков был проповедником «мистического демократизма». К. Аксаков выступал против ограничения самодержавной власти царя, будучи в то же время сторонником духовной свободы индивидуума. Когда в 1855 г. на трон взошел Александр II, Аксаков представил ему через графа Блудова «Записку о внутреннем состоянии России». В «Записке» Аксаков упрекал правительство за подавление нравственной свободы народа и деспотизм, который привел к нравственной деградации нации; он указывал, что крайние меры могут только сделать в народе популярной идею политической свободы и породить стремление к достижению свободы революционным путем. Ради предотвращения подобной опасности Аксаков советует царю даровать свободу мысли и слова, а также возвратить к жизни практику созыва земских соборов. Здесь мы непосредственно подходим к учению славянофилов о государстве. Н. А. Бердяев утверждает в своей монографии о Хомякове, что „славянофилы были своеобразными анархистами, анархический мотив у них очень силен".[55] Но все же нужно оговориться, что этот анархизм был именно своеобразным, сильно отличным от типических его образцов. Анархизм в буквальном, обычном значении этого термина был чужд славянофильской идеологии. Славянофилы не отрицали государства абсолютным отрицанием, как, например, штирнерианство или толстовство, они лишь смотрели на него, как на „необходимое зло", „неизбежную крайность", как на „постороннее средство, а не цель, не идеал народного бытия". |
|