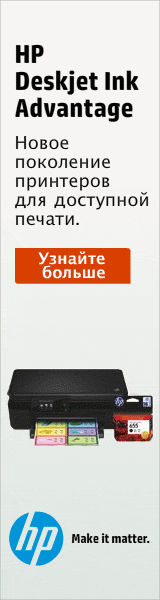|
Эволюция центральных представительных органов власти в РоссииПоложение о Думе определяло и общие принципы отношений Думы с исполнительной властью. «Во всех собраниях Государственной Думы могут присутствовать Министры и Главноуправляющие отдельными частями, но участвовать в голосовании они имеют право только в том случае, если состоят членами Думы» (ст. 39). Государственная Дума на основании ст. 40 Учреждения могла обращаться к Министрам и Главноуправляющим за разъяснениями, непосредственно касающимися рассматриваемых ею дел. Министры и Главноуправляющие имели право отказаться от предоставления Думе своих разъяснений по таким предметам, «кои, по соображениям государственного порядка, не подлежат оглашению. Равным образом Министры и Главноуправляющие должны быть выслушаны в заседаниях Думы каждый раз, когда они о том заявят». Важное значение имела и ст. 33, которая гласила: «Государственная Дума может обращаться к Министрам и Главноуправляющим отдельными частями, подчиненным по закону Правительствующему Сенату, с запросами по поводу таких, последовавших с их стороны или подведомственных им лиц и установлений, действий, кои представляются незакономерными». Ст. 58-60 регламентировали порядок отношений Думы и министров по работе с законопроектами. Главное, что Дума не могла запретить действия Министерства Императорского двора, иностранных дел, военного и морского министров. Практика вскоре показала, что председатель Совмина мог, ссылаясь на эту статью, отказаться отвечать на запросы депутатов. Да и отдельные министры при желании могли сослаться на соответствующие статьи «Учреждения Госдумы» и отказаться отвечать на депутатские запросы. С другой стороны, министры сохраняли возможность контролировать законотворческую работу Думы даже в порядке думской инициативы (очень ограниченной). Ссылаясь на эти статьи, министры отказывались предоставлять в Думу материалы, необходимые для подготовки проектов в думских комиссиях, и даже препятствовали Думе запрашивать необходимую им информацию из внеправительственных источников. Одним словом, в «Учреждении Госдумы» отношения между Думой, с одной стороны, и исполнительной властью, с другой, определялись так, что ставили Думу в полную зависимость от правительства даже в области ее непосредственной деятельности. Правительство, как власть исполнительная, вообще не подлежало ответственности перед народными представителями. Оно оставалось чисто императорской властью. В конечном счете, как показала практика, бесправие Думы определяло во многом бесправие правительства, ставшего к концу думской эпохи пешкой в руках придворной камарильи. Только сильный парламент может создать сильную авторитетную исполнительную власть. Бессилие парламента (Думы) ставит и эту ветвь власти в полную зависимость от авторитарных структур, присваивающих функции главы государства, законодательной, исполнительной и даже судебной власти. Отметим и то, что депутаты Думы принимали специальную присягу (торжественное обещание), текст которой гласил: «Мы, нижепоименованные, обещаем пред Всемогущим Богом исполнять возложенные на нас обязанности членов Государственной Думы по крайнему нашему разумению и силам, храня верность Его Императорскому Величеству Государю Императору и Самодержцу Всероссийскому и помятуя лишь о благе и пользе России, удостоверение чего своеручно подписуемся». Рупором научной общественности по поводу всего комплекта думских актов выступил журнал «Право». И с весьма критических позиций. В редакционной статье «Конституция 20 февраля» журнал едко оценил эти акты. «Они перемешаны положениями, которые на каждом шагу грозят конфликтами между правительством и обществом, которые грозят свести на нет дальнейшую мирную работу». Начатая с угрозы кровопролития статья и заканчивалась на весьма минорной ноте: «акты 20 февраля, даровавшие стране Конституцию, не обратили мрачных будней правительственной реакции в радостный праздник торжества свободы и справедливости. Этот праздник надо еще завоевать». Радикальные и оппозиционные (кадеты) силы сходились в те дни в требовании-кличе: «Долой самодержавие!» Орган, назвавший царский Манифест Конституцией, возмущен, что «монарх сохраняет титул самодержца» и отсылает читателя к статье в предыдущем номере (тоже, кстати, редакционной) «Конституционная Россия и самодержавие», где этот клич «Долой самодержавие!» фигурирует в качестве пугала и где было заявлено, что «самодержавие обозначает неограниченность власти государя». Статья оспаривала мнение тех, кто считал, что титул Императора как самодержца может быть сохранен. «Право» считало, что сохранение самодержавия создает новый повод для дальнейшего кровопролития. Довольно междоусобий, довольно крови! Журнал считал такой ответ «единственно ценным». Через неделю, напоминая читателю об этом «единственном» заявлении, обосновывая лозунг устранения самодержавия, этот журнал заявлял: «титул теряет свое реальное значение. Мы теперь имеем самодержавие без содержания и конституцию без названия — одна ненормальность дополняет логически другую /.../ В акте под угрозой исключения для всех членов Думы и Гос.Совета вводится «обещание перед Всемогущим Богом «хранение» верности Самодержцу Всероссийскому /.../ обязательность этого торжественного обещания (клятвы - А. С.) даже усилена сравнительно с положением Думы 6 августа (т.е. совещательной - А. С), которое не устраивало никакой санкции для случаев отказа дать таковое. В этом вопросе законодатель обнаруживал «опасную любовь к архитектурным украшениям в духе древней старины». Что можно сказать по поводу этого залпа по Зимнему дворцу? Верно отметив противоречивое сочетание авторитарных и народопредставительных тенденций в Конституции 20 февраля, автор публикации в «Праве» допускал поразительную односторонность, если не предвзятость. Огульное отвержение титула самодержавного государя в условиях России мало что объясняло. Еще Карамзин Н.М. замечал, что титул «самодержавный» изначально являлся выражением и единства русской земли, целостности, и суверенности державы Российской. Легитимное выражение проблемы целостности России сохраняло всю свою значимость и в XX веке: и в его начале, и в конце. Вопрос об оценке постепенных преобразований власти современниками не мог быть однозначным. Он и сегодня не имеет окончательного ответа. И разве события 1905 года не обозначили реальную угрозу распада государства?! Остро стоял и вопрос суверенности. Нельзя согласиться с юристом «Права» в том, что и «настаивать на этом было бы делом совершенно праздным, ибо самого вопроса о вассальном характере России ни у кого не возникает. Ивану III надо было бы как-нибудь выразить и подчеркнуть свою независимость. Современная Россия в этом нимало не нуждается»4. Удивительная несуразность! Иначе этот тезис «Права» не назовешь. Ведь писалось-то в дни, когда еще не стерлась память о несправоцированной японской агрессии, гибели флота, потере половины Сахалина, вынужденного отречения от исторических прав на Курилы (а это свободный выход в океан). Обстановка диктовала остроту вопроса о суверенитете и единстве. Конечно, Сахалин далеко, но земля-то нашенская, предками освоенная. Важен принцип, прецедент. Не случайно к Витте, как творцу Портсмутского Мирного договора с Японией, за территориальные уступки приклеилось прочно прозвище «граф Полусахалинский». Редакционная статья далее оспаривала провозглашенное «Конституцией 20 февраля» ограничение прав Думы, лишение ее права вносить изменения в Основные законы и пересматривать положение о Думе и Госсовете. Эти ограничения, справедливо заметил журнал, не вытекали из существа конституционного образа правления. Как «современное новшество» журнал определил учреждение Государственного Совета. Ведь в Октябрьском Манифесте о нем речи не было. Вместе с тем, Государственный Совет верно был определен в журнале как «послушное орудие в руках Верховной власти», который «донельзя затруднит деятельность Государственной Думы». Это опасение полностью оправдалось. Общая оценка «Конституции 20 февраля» содержалась в следующем резюме: «Манифест 17 октября установил две задачи для учреждения Думы; законы впредь не должны издаваться без ее согласия, Думе должен быть предоставлен контроль за закономерностью действий властей. Ни та, ни другая задача не могут быть успешно выполняемы ею при действии «Учреждения» 20 февраля»5. Эта оценка Конституции 20 февраля была развита в том же номере в статье «Второе учреждение Государственной Думы», которая публиковалась в трех номерах. Она принадлежит перу известного юриста Н.И.Лазаревского, тогда еще приват-доцента, и поражает отточенностью, выверенностью суждений и оценок, эрудицией талантливого молодого, многообещающего правоведа, ученика Н.М.Коркунова. (Нельзя не отметить его трагическую судьбу. В 1921 г. профессор Лазаревский был расстрелян вместе с поэтом Николаем Гумилевым и другими, проходящими «по делу проф. Таганцева»). Внимание к его научному наследству пусть послужит его светлой памяти. «Закон не может воспринять силы без одобрения Совета и Думы» — писал Лазаревский. Этим положением, справедливо указывает автор, «категорично устанавливается основное начало конституционного строя». Сомнения в том, является ли отныне Россия конституционной монархией, уже нет. «Таким образом, основной вопрос разрешен и разрешен правильно /.../ он был предложен уже 17 октября». Рассмотрим полностью это утверждение, имеющее первостепенное значение в закладывающемся на столетие споре о характере Государственного строя «постоктябрьской» (1905 г.) России. Достоинство статьи Лазаревского, делающее ее особо ценной для данного исследования, заключается в тщательном последовательном проведении сопоставления первого (6 авг.) и второго (20 февр.) Учреждений Государственной Думы. В литературе по этой проблеме, к сожалению, сложилась традиция ограничиваться заявлениями о том, что одна (булыгинская) Дума проектировалась как совещательный орган, другая же (по Манифесту 17 окт. и второму учреждению Думы) как законодательная. Далее этого общего заключения, как правило, не шли. Раз булыгинский проект был сметен революционным вихрем, то к чему ее анализировать. Сопоставление, сделанное Лазаревским, позволяет определить движение правовой мысли, первоначальные приобретения которой не утратили практической значимости. Много грехов было у первого учреждения Думы. Кое-какие из этих грехов устранены. Устранено правило, что заседания Думы не публичны. И в самом деле, какова цена «гласности», под сурдинку сотворенной. Как тут не вспомнить слова Чернышевского, что в России гласность означает отсутствие свободы мысли и слова. И Думе по положению 20 февраля даровали право публичности, тем поставив ее работу «под надзор общественности». Это одно из общих начал конституционных учреждений. Тут важен был принцип. В первом Учреждении (6 августа) было поразительное по своей непрактичности правило об отделах Думы. Оно устранено вторым положением. Думе дано право создавать по своему усмотрению комиссии. Практика показала, что основной формой работы стали именно думские комиссии. Еще одно важное изменение. На случай разногласий между Государственным Советом и Думою было предусмотрено создание специальной Согласительной Комиссии и устранены имевшиеся в законе 6 августа правила, умалявшие роль Думы. Заложены основы равноправия обеих палат. Сохранялось и важное правило, что члены Думы не могут быть подвергнуты лишению или ограничению свободы иначе как по распоряжению судебной власти. Возникал вопрос. Ведь Октябрьский Манифест уже провозгласил гражданские права и личную неприкосновенность граждан. Стоит ли еще раз запрещать внесудебные расправы? Здесь важен другой аспект проблемы. Для депутата Думы недостаточно общих гарантий гражданских прав. Конституционная практика других государств оправдала принцип депутатской неприкосновенности. Без введения этого правила в практику можно было ожидать ареста оппозиционных депутатов. Как показал дальнейший ход событий, это предостережение не оказалось излишним. Спорным являлось правило о запрещении представлять в Думу письменные заявления, просьбы, петиции, посылать и принимать депутации (ст. 197). Это вопрос не только ограждения спокойствия, предотвращения давления извне на депутатов, но и вопрос о взаимосвязи, контакте народных избранников с их избирателями. Второе учреждение Думы уточнило и права ее председателя. По первичным проектам он был лицом, назначаемым Государем, так сказать, «оком государевым». При новой, более демократической процедуре, председатель избирался тайным голосованием и соответственно был выразителем воли не только большинства, его избравшего, но и защитником прав Думы в целом, ее представителем перед общественными и государственными учреждениями, и, что особенно важно — перед Императором. Однако в Думе он был первым среди равных. Это подчеркивало правило, гласившее, что при разделении голосов на равные половины — голос председателя давал перевес только при повторной баллотировке. Особое значение имели новации второго «Учреждения» по вопросу о контроле Думы над администрацией. Право на запрос имела лишь солидарная в этом требовании группа в 30 депутатов, а чтобы этот запрос адресовать, направить министру, нужно было решение большинства Думы; не отдельный депутат, и даже не группа (фракция) депутатов, а Дума как целое, волею ее большинства обретала право запроса к министру. Анализируя проблему ответственности министерств, Лазаревский высветил значение ряда процедурных вопросов. Коротко остановимся на этом. «Можно допускать,— отмечал он,— что в самодержавном государстве политическая ответственность министров возможна только перед государем. Он один является судьею целесообразности действий министров. Но существо и неограниченной монархии не требует, чтобы уголовные преступления, совершенные или пропущенные министрами, всегда оставались безнаказанными». «Безответственность» министров вызвала столь бурный и единодушный протест печати, и не только оппозиционной, что Манифест 17 октября уже возложил на правительство «исполнение непреклонной Нашей воли /.../ чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного надзора за закономерностью действий поставленных от Нас властей». В Учреждении Госдумы от 20 февраля 1906 г. появляются слова: «Обращаться к министрам с запросами». Что же сделало правительство во исполнение этой ясно выраженной воли и правды монаршей? Чем обеспечено это право надзора действительного. Если внимательно прочесть соответствующие статьи нового учреждения (33, 40, 41, 58, 59, 60), то увидим тесные рамки думских прав. И новое Учреждение Думы как и прежнее исходило из того, что Дума по поводу «разъяснений министров» по своим запросам никаких постановлений, тем паче осуждений в роде требования отставки, принимать не может. Тут все по-старому. Все те стеснения для Думы, которые были изобретены в первом Учреждении ее, остались и после, во втором. Новое только в том, какое дальнейшее движение (по инстанциям) получает Постановление Думы, не признавшей возможным удовлетвориться объяснениями (отказом) министра по запросу. По первому положению это решение Думы, как указывалось, направлялось в Государственный Совет. По положению 20 февраля это решение представляется на Высочайшее решение Председателем Госсовета (ст. 60). Именно Совета, а не Думы, как логично можно бы полагать. Ведь согласно Учреждению Думы именно ее Председатель представляет ее во вне, перед Престолом прежде всего. Думе было всё же дано право просить (не требовать) царя об увольнении министра, нарушавшего, по мнению депутатов, закон. Но ни одного раза этим правом Дума не воспользовалась. Просить Дума не желала. Согласно Учреждению Думы, ее председатель всеподданнейше повергает на Высочайшее благовоззрение отчет о занятиях Думы. Но из этого правила сделано исключение в угоду власти. Смысл этого исключения в различии статуса председателей двух палат. Если председатель Думы избирается последней (ст. 9), то председатель Госсовета назначается Государем и притом обязательно из членов «по назначению», т.е. из среды эксминистров и прочих представителей высших звеньев бюрократии и придворных чинов, осевших в Совете. Разумеется такой председатель защитит своего, «не выдаст Ивашку головой». Надо иметь в виду, что в высших эшелонах управления было много лиц, связанных узами давней дружбы, спаянных узами университетского, лицейского братства, полкового товарищества, соединенных родством, общностью служебных интересов. К примеру, Родзянко — председатель двух Дум, был в близком родстве с князьями Голицыными, Юсуповыми, и через последних — с Императорской фамилией. Столыпин был в близком родстве с графами Толстыми, через них с князьями Волконскими, Гончаровыми... Боярский род Пушкиных имел общего предка с Романовыми, и многими аристократическими родами. Эти родственные, житейские связи тоже сыграли свою роль в создании особых гарантий, защитных барьеров высшей бюрократии, сановников, от покушений на честь и достоинство со стороны «народных избранников». Цезарь выше ученых голов. Лазаревский Н.И. был совершенно прав, заявляя, что для всей нашей государственной жизни при засилии, всевластии Угрюм Бурчеевых «практическая значимость народного представительства заключается не только в том участии, которое оно будет принимать в законодательстве, а прежде всего в том, что народное представительство является единственной силой, на деле могущей уничтожить всевластие администрации и понудить ее к исполнению законов». Ограничения, так и хочется сказать «уздечка», наложенные на Думу, и акты 20 февраля фактически не позволяли Думе выполнять эту свою функцию надзора за администрацией. Какова же цена законотворчества Думы, если она бессильна в предотвращении нарушения законов, и какова цена ее решений, если их можно высшим должностным лицам нарушать, не страшась последствий. Словом, проблема «ответственности министерства» — это нечто большее, чем парламентские принципы формирования правительства, запросы. Это — основа правопорядка, законности, правового строя. Если высшие должностные лица могут быть свободными от ответственности за должностные преступления, за попрание закона, то что же требовать от простого обывателя? Примером уважения законов является отношение к ним главы государства, монарха, его Императорского кабинета, двора его, министров. И рыба гниет с головы. Недаром возник принцип: «плох закон, но он закон». Без уважения к существующим законам, правовым нормам, актам нельзя их совершенствовать. Была разработана система сдержек Думы, но не было таковой в отношении «исторической власти», оставшейся авторитарной. Ахиллесовой пятой конституции 20 февраля было отсутствие законом освещенного механизма, обеспечивающего строгое соблюдение законов, сурового наказания должностных лиц за их нарушения. И дело тут не только в ответственности министров, но в общем принципе содержания и обеспечения законности. Однако и с законодательными правами во втором Учреждении о Государственной Думе положение было не лучше, чем в сфере ответственности. Этот документ не создал механизма, обеспечивающего эффективный процесс законотворчества. Установленный механизм за десятилетие не был изменен, часто работал вхолостую, пробуксовывал, ломался, ремонтировался, что отражалось на конечной продукции. Изначально в проекте «Конституции» были допущены погрешности, перекосы, одних деталей вообще не оказалось, другие были с брачком. Положение 20 февраля 1906 г. декларировало, что ни один проект закона не получает дальнейшего движения, не восходит через Госсовет к Императору на утверждение, если он отвергнут Думой. Но сразу же встает вопрос, что понималось под законом авторами Манифеста от 20 февраля, и как это понимание могло отразиться на деятельности Думы. Это важно отметить, ибо в практике дооктябрьского периода имело место отождествление закона со всеми актами (указами, рескриптами и прочими волеизъявлениями) Верховной власти. Естественно, что юридически отождествлять «закон» с высочайше утвержденным постановлением (мнением) Госсовета невозможно. Специальная статья 53 Основных Законов перечисляла те акты, которые приобретали силу закона по утверждении Императором. «Законы издаются в виде уложений, уставов, учреждений, грамот, положений, наказов (инструкций), манифестов, мнений Государственного Совета, его докладов, удостоенных Высочайшего утверждения». Новации второго учреждения Госдумы как-то могли способствовать укреплению законности, прекращению практики размывания самого понятия закон, его произвольного отождествления с административными распоряжениями, решениями исполнительных структур, принятых по управлению. Теперь все акты: и те, что проходили к престолу через Госсовет, и те, что шли к царю иными (часто «кривыми») путями, отныне, после конституции 20 февраля, должны были проходить непременно через Думу и получать ее одобрение. Таков, казалось, был смысл закона, но практика, в том числе и думская, весьма часто шла иными, «неправедными» путями. Таким образом, оставалось различать Законы, утвержденные Государем после одобрения их Думой и Советом, и акты, не прошедшие через Думу и Совет, хотя и утвержденные Высочайшей властью. Подзаконные акты (высочайше одобренные без «единения» с представительными органами) должны быть полностью согласными с подлинными законами, прошедшими через Думу и Совет. Но это теория, а практика показала иное. Размывание законов продолжалось и после Конституции 20 февраля. Размывание законов (этот термин восходит к трудам Н.М.Коркунова) связано с отсутствием действительной гарантии верховенства закона над подзаконными (незаконодательными) актами власти, даже верховной (монарх, президент). Как показала российская практика, глава государства не всегда может быть действительным гарантом верховенства закона. И Государственная Дума не смогла стать надежным стражем и гарантом законности, ибо изначально была лишена возможности им стать. Отсутствие этих гарантий ставит всю первую «конституцию» в полную зависимость от воли Верховной власти. В актах 20 февраля (в апреле того же года уже и подкрепленных новой редакцией Основных Законов) не было гарантии непременного согласия власти и с законами (актами, утвержденными Думой). Не предусматривалось ни ответственности министров, ни думского, ни судебного контроля («надзора») над законностью актов верховной власти. Можно сказать, что конституционные принципы, начала были декларированы, но конституция осталась только на словах и сохранение титула императора «самодержавный» соответствовало фактическому положению. Верховная власть сохраняла (и по закону) полную возможность нарушать даже и те принципы, которые ею же были провозглашены. Участие Думы в законодательстве, законотворчестве начинается с обеспечения ее права на законодательную инициативу. Если «вето» Думы, ее право на отклонение закона, это предохранитель от законов неправедных, направленных не на всеобщее благо народное, а во вред оному, то право на законодательную инициативу создает возможность улучшать законы, совершенствовать законодательство во имя общего блага. Это уже не предохранительный, отрицающий, а созидательный, позитивный аспект законотворчества. Учреждение Думы 6 августа предоставляло дело разработки законопроектов всецело в руки министров. Думе же была уготована участь бесправной говорильни о желательности или нежелательности правовых актов. Строго говоря, ей предоставляли право не законодательной инициативы, а лишь право возбуждения ходатайств по делам законодательным. Причем и эта желательность была весьма относительной, ибо первое Учреждение гласило, что министр дает делу ход, «если разделяет соображения Госдумы о желательности отмены или изменения закона» (ст. 56). Ну а если не разделяет?.. Представим ситуацию: в Думе солидарно сошлись 30 депутатов, подготовили проект Закона, уговорили большинство Думы их поддержать, вынесли решение, направили министру и резолюцию, одобряющую и сам проект закона, а министр эти «соображения о желательности» не принял и вся работа ушла в архив8. Только в случае министерского одобрения «соображений о желательности» он, министр, давал «делу движение в законодательном порядке» (ст. 56), т.е. вносил бы этот проект, из Думы полученный, на рассмотрение в ту же Думу (ст. 46). Не очень, конечно, эффективная процедура, но закон есть закон, солидарность министра с мнением большинства Думы (ее решением) открывала думской инициативе реальную возможность провести закон через министерство. Госсовет к Верховной власти, за которой оставалось последнее слово. Вполне допустимая процедура, ведь законы, принятые полноправным парламентом, получают силу закона по утверждении главой государства. Второе Учреждение Думы, как это ни парадоксально, урезало и уже данное право Думы на ее законодательную инициативу, сделало шаг назад. Этот юридический трюк заслуживает специального внимания. По второму Учреждению, даже одобренный министром проект закона не подлежит обсуждению, шлифовке, принятию и дальнейшему восхождению в Верховной власти. От всей уже проделанной работы остается лишь «соображение о желательности», своего рода импульс, челобитная, ибо подготовка проекта закона с чистого листа возлагается на министра, одобрившего «желательность» соответствующего законодательного предположения Думы: «соответствующий проект вырабатывается подлежащим министром» (ст. 57). Проект закона готовит министр, его аппарат, его эксперты, а Думе остается выразить затем согласие. Конечно, при подготовке министерского проекта референты министра могут использовать среди других материалов и думский проект, но могут и не посчитаться с депутатскими разработками. Вольному - воля, но депутатам воли в этом деле не предоставлено. В той же статье 57 второго Учреждения Думы говорится, что в случае отказа министра от думского законодательного предположения Дума получает право создавать комиссию и готовить свой проект закона. Вроде бы Думе открывают путь — пробуй, твори. Но только «вроде бы». Это мираж, а не живительный источник. Ведь министр, беря в свои руки подготовку закона, может придать своему проекту даже антидумскую направленность, или просто растянуть, отложить подготовку проекта до «греческих календ». А Дума и в этом случае лишена реальной возможности воздействовать на министра. Во всяком случае Учреждение таких прав для Думы не предусматривало. Резюмируя сопоставление двух Учреждений можно сказать, что второе лишало Думу права на законодательную инициативу даже в тех весьма скромных размерах, кои нарезались Думе по первому Учреждению (Булыгинскому). Видные юристы еще весной 1906 г. указывали, что пока Дума не получит вполне реально поставленного права законодательной инициативы, реформ не будет. К сожалению, это опасение оправдалось. Но и вышеперечисленные урезанные права Думы в области законодательства были еще более умалены полным изъятием из этой инициативы Основных Законов, почин на изменение которых всецело был оставлен за монархом. Это было сделано в целях сохранения верховных прав державного вождя от покушений со стороны весьма ненадежных избранников от земли русской. Творцы конституции 20 февраля исходили из того, чтобы выработать механизм сочетания авторитарных и народопредставительных принципов, обеспечить историческую преемственность власти и, на этой основе традиционности, совершенствовать государственную систему. Но па практике такого сочетания не получилось. Политический компромисс между сторонниками и противниками конституционной монархии не состоялся. Еще до созыва Думы 1906 г. политические враги монархии заявляли о недостаточности конституции 20 февраля: «недостатки этих законов столь несомненны, столь очевидны, что коренной пересмотр этих законов есть только вопрос времени»10. Так вещало прокадетское «Право». Приговор вынесли в 1906 году, исполнили через десятилетие. 10 лет в камере смертников — так можно назвать «самодержавие с Думой», думскую монархию. Погибли и жертвы, и безжалостные судьи — и Дума, и монархия.
5.3 I Гос.ДумаI Государственная дума действовала всего 72 дня — с 27 апреля по 8 июля 1906 г. Самой большой фракцией Государственной думы первого созыва была кадетская. Правые члены (черносотенцы и октябристы) составляли ничтожное меньшинство, равное примерно 9% (44 члена). Председателем I Государственной думы был выбран адвокат и бывший проректор Московского университета кадет С. А. Муромцев; кадетским был весь состав президиума. Основным вопросом I Думы был аграрный вопрос. Дума рассмотрела и ряд других вопросов и проектов, имевших весьма актуальное значение (об отмене смертной казни, о гражданском равноправии, об ассигновании сверхсметных кредитов на продовольственную помощь голодающим и т. д.). Но правительство не желало считаться с мнением Думы. Председатель Совета Министров П. Л. Горемыкин отверг аграрные думские проекты, считая, что их утверждение «безусловно недопустимо», а реакционное большинство Государственного совета похоронило утвержденный Думой законопроект об отмене смертной казни. Правительство стремилось занять Думу рассмотрением мелких законопроектов, получивших впоследствии наименование «думской вермишели». Недовольное составом и характером деятельности Государственной думы первого созыва, правительство подготовило ее разгон. 9 июля был обнародован указ царя о роспуске I Думы и выборах во II Думу. В опубликованном одновременно манифесте правительство обвиняло Думу в возбуждении революционных настроений. «Роспуск Думы самым наглядным и ярким образом подтвердил взгляды тех, кто предостерегал от увлечения «конституционной» внешностью Думы...»,—писал по этому поводу В. И. Ленин. Часть членов I Думы (около 230 членов), главным образом кадеты и трудовики, не подчинилась указу о роспуске Думы и, собравшись в одной из гостиниц Выборга, провела два заседания (вечером 9 и утром 10 нюня). Кадетское руководство Думы обратилось к населению с воззванием, призывая его в знак протеста не платить налоги и уклоняться от воинских наборов. Впоследствии членам Думы, подписавшим Выборгское воззвание, было предъявлено обвинение в возбуждении к неповиновению и противодействию законам (статьи 51 и 129 Уголовного уложения). Дело 167 членов рассматривалось в Особом присутствии петербургской судебной палаты в 1907 г. На «Выборгском процессе» еще раз подтвердилась умеренность взглядов кадетов. Один из лидеров кадетской фракции оправдывал на суде действия думцев, подписавших воззвание, тем, что они старались предупредить «новую смуту, новые беспорядки и, может быть, пролитие крови», и заверял судей, что «уговора распространения воззвания у нас не было». Суд вынес мягкий приговор (тюремное заключение на 3 месяца, которое многие уже отбыли, дожидаясь суда). 5.3 II Гос.ДумаПосле роспуска I Думы правительство в условиях спада революции в начале 1907 г. провело выборы во II Думу. «Для правительства,— писал В. И. Ленин,— созыв Думы был вынужденной необходимостью. Надо было попытаться еще раз, при наивысших возможных репрессиях, созвать народное представительство ради соглашения с буржуазией. Опыт явно не удался. Военно-полевые суды и все прочие прелести столыпинской конституции чрезвычайно помогли революционной агитации в незатронутых дотоле массах и дали из глубины мужицких масс левую Думу». Из 468 членов Государственной думы второго созыва фракцию правых составляли лишь 54 члена. Кадеты потеряли почти половину мест (со 179 до 98); зато значительно возросли левые фракции: трудовики имели 104 места, народные социалисты и эсеры — 94 места. В условиях спада революции большевики приняли участие в выборах и деятельности II Думы. Социал-демократическая фракция II Думы состояла из 66 членов (55 членов с решающим голосом) Несмотря на уменьшение числа мест, кадеты сохранили руководство и во II Думе; их поддерживали автономисты (76 членов), а не редко и мелкобуржуазные фракции (народных социалистов, эсеров и трудовиков). Председателем Думы был выбран кадет Ф. А. Головин. Основным вопросом оставался аграрный вопрос, по которому каждая фракция предложила свой проект. Проект выступления по аграрному вопросу в Государственной думе от большевиков был написан В. И. Лениным. Кроме того, во II Думе рассматривались: продовольственный вопрос, роспись бюджета на 1907 г., исполнение государственной росписи, набор новобранцев, отмена чрезвычайного указа о военно-полевых судах, реформа местного суда. В процессе рассмотрения всех этих вопросов кадетская фракция Думы проявляла уступчивость, призывала «беречь Думу», не давать правительству повод для ее роспуска. Кадеты внесли в свой законопроект ряд коррективов, сделавших его еще более умеренным, сняли с обсуждения вопрос о безработице, похоронили внесенный социал-демократической фракцией проект продовольственной помощи, сняли внесенный трудовиками проект амнистии и т. д. Мелкобуржуазные фракции трудовиков, эсеров и народных социалистов блокировались с кадетами в решении ряда вопросов. Эту «анемичность» основного состава II Думы В. И. Ленин объяснял анемичностью колеблющейся и уставшей от революции мелкой буржуазии. В социал-демократической фракции преобладали меньшевики. Эта фракция тоже проявляла нерешительность, допуская иногда ошибки и шатания в подходе к некоторым вопросам. II Дума не оправдала надежд правительства. Аппарат Министерства внутренних дел подготовил втайне от Думы проект нового избирательного закона, который был настолько реакционным, что даже в Совете Министров, где он рассматривался, его охарактеризовали как «бесстыжий» проект. Правительство решило избавиться от социал-демократической фракции, которая, несмотря на свои политические и тактические ошибки, оставалась самой революционной фракцией Думы. 1 июня 1907 г. Столыпин потребовал проведения закрытого заседания Думы, на котором прокурор Петербургской судебной палаты Камышанский предъявил членам социал-демократической фракции обвинение в подготовке к «ниспровержению государственного строя» (статья 102, ч. I Уголовного уложения), потребовав лишения их неприкосновенности и выдачи. Обвинение основывалось на подложном тексте солдатского наказа к социал-демократической фракции Думы, сфабрикованном по заданию начальника петербургской охранки 3. 3 июня 1907 г. был обнародован манифест и указ о роспуске Государственной думы второго созыва и назначении выборов в III Думу; одновременно был издан текст нового избирательного закона. Распустив II Государственную думу, правительство вскоре осуществило расправу над ее социал-демократической фракцией. Рассмотрев при закрытых дверях сфабрикованное петербургской охранкой «дело» социал-демократической фракции, Особое присутствие Сената в 1907—1908 гг. осудило большую часть членов фракции на каторгу и ссылку. II Дума действовала всего 102 дня. Кратковременность действий Государственной думы первых двух созыве» объясняется их левым составом и попытками обсуждать наиболее важные и актуальные вопросы революции. 5.4 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ»События, разыгравшиеся в России в связи с роспуском Второй Думы и изменением избирательного закона в историографии проблемы получили наименование третьеиюньского «переворота». При слове переворот в памяти невольно всплывают фамилии Бонапарта, Пиночета, латиноамериканских, африканских «вождей» и прочих, свергающих правительство, расстреливающих парламент и орудийными залпами наводящих «порядок». Орудийных залпов Россия летом 1907 г. не слышала. Более того, в печати проправительственного направления разъяснялось, что Император имел полное право сужать и расширять им же дарованные стране права и учреждения. И с точки зрения монархической системы координат это так и выглядело. О перевороте говорила леворадикальная и оппозиционная центристская печать. А большинство народа безмолвствовало: жало, косило, пахало и сеяло, строило дома, воспитывало детей. Сам термин «государственный переворот» появился в оппозиционной печати летом 1907 г. С.А.Муромцев писал в те дни: «Государственный переворот 1905-1906 гг. совершился так, что политическая сущность его не была официально означена никаким определенным именем. Если в императорском Манифесте октября 1905 г. было провозглашено в качестве «непоколебимого» принципа нового порядка то правило, что никакой новый закон не будет иметь силы без одобрения Государственной Думы, и если это правило было потом включено в Основные законы в их новой редакции, то, с другой стороны, в тех же Основных законах в числе эпитетов Императора было сохранено «самодержец», а законы вообще не содержали в себе никакой характеристики нового государственного строя. Только однажды, еще в министерство графа Витте, в официальном журнале промелькнула небольшая заметка, в которой разъяснялось, что удержанный в Основных законах титул надо понимать в его наиболее древнем смысле «единодержавия» — в противоположность многодержавию многих князей, но слово «конституция», начавшее не без упорства обращаться в либеральной прессе, ни разу не проникло в официальный язык русской бюрократии. Двусмысленность разъясняется теперь Манифестом 3 июня 1907 г., который впервые после заявлений 17 октября 1905 года вкладывает определенный смысл в титул «самодержец», и этот смысл оказывается тем же самым, каковым он почитался до вышеозначенных заявлений — в то время, когда не существовало еще никаких признаков конституции. Мы узнали теперь, что конституционный порядок законодательства вовсе не имеет безусловного значения; при издании нового избирательного закона он не был вовсе принят во внимание. Только власти, даровавшей первый избирательный закон, принадлежит право отменить его или заменить его новым. Таким образом, регулирование избирательного права объявлено актом, стоящим вне круга конституционного законодательства. Такова новая и неожиданная мысль, направленная по адресу теоретиков русской «конституции». Даже органы правых партий сочли нужным отметить в этой мысли, как они выражаются, некоторую «формальную» неправильность, некоторый «формальный» анахронизм. В нашем случае следует сказать откровеннее и решительнее. Это — несомненный реликт, коренным образом изменяющий все существо русского государственного порядка по сравнению с идеями 17 октября 1905 г. Такого именно поворота событий и желали правые партии, его добивались консервативные элементы русской бюрократии и всего русского общества. Они были бы, может быть, еще более удовлетворены, если бы новый Манифест вообще упразднил всякое народное представительство и сделал бы попытку полной реабилитации автократического принципа государственного управления. Основные законы возлагают на Сенат обязанность не допускать обнародования законов, «если порядок их издания не соответствует положениям Основных законов». Но наивно было бы ожидать, чтобы Сенат в действительности отверг обнародование нового избирательного закона. И мы знаем, что такое обнародование воспоследовало беспрепятственно. Важнее — установить, что отречение правительства от строгого конституционализма таит в себе еще нечто, имеющее при настоящих обстоятельствах особое значение. Правительство радикально изменяет свое отношение к крестьянству, таков — центральный пункт последовавшего «переворота». С давних пор русское правительство привыкло видеть в крестьянстве лучшую опору автократического строя. Когда два года тому назад (1905 г.) правительство решило призвать народных представителей к участию в правлении, то прежде всего оно позаботилось о том, чтобы крестьянские элементы получили преобладающее положение в составе представительства. Все состояло тогда под подозрением политической неблагонадежности — только крестьяне казались верными сторонниками старого режима. В них одних усматривалась твердая опора против грозивших правительству революционных течений. |
|